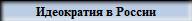Идеократия в России
Часть II. ИДЕОКРАТИЯ В РОССИИ (XX век.)
 Предисловие
ПредисловиеГлава 1. Пятая колонна империи (XIX–ХХ вв.)
Предварение
Носитель духовной заразы
Болезни либерального общества
Либералы и власть
Немощи власти
Глава 2. Духовное разложение (до 1917 г.)
Идеологизация общества и власти
Церковь в начале века
Партия – плоть идеомании
Глава 3. Блицкриг идеомании (1917 г.)
Крушение государственных устоев
Духовное помутнение нации
Роковой и инфернальный факторы
Глава 4. Идеократия в действии (1917–1921 гг.)
Военный коммунизм
Инфернальная лениниана
Поместный собор и патриарх
Илья Репин. 17 ОКТЯБРЯ 1905.
Маятник террора – оттепелей
Антирелигиозный шабаш
Глава 6. Большой террор (1927–1941 гг.)
Генеральная линия идеократии
Три «кита» коммунистической экономики
Социальная селекция
Пик богоборчества
Глава 7. Трещины в идеократии (1941–1953 гг.)
Испытание войной
Сталинское «возрождение»
Глава 8. Судороги оттепели (1953–1964 гг.)
Неизбежность десталинизации
Что олицетворял Хрущёв
Гонения на Церковь
Глава 9. Стагнация режима (1965–1985 гг.)
Догматики, консерваторы и прагматики
Духовная оппозиция
Попытки разложения Церкви
Глава 10. Перестройка (1985–1991 гг.)
Слив идеологии
Состояние экономики
Мимикрия правящего слоя
Новые западники и почвенники
Зарубежный фактор
Положение Церкви
Глава 11. Агония идеократии (1991–1999 гг.)
Ранний ельцинизм
Беловежский переворот
Социально-политическая база режима
Расстрел парламента (осень 1193 г.)
Опыт христианской демократии
Первая Чеченская война (конец 1994 – начало 1996 г.)
Поздний ельцинизм
Антирусский курс ельцинизма
Церковь в девяностые годы
Россия на распутье
Глава 12. Русская Голгофа – мистические итоги XX века
ПРЕДИСЛОВИЕ
В чём причина нескончаемых бедствий России в XX столетии? Отчего население богатейшей страны прозябает в нищете? Почему падение коммунистического режима в 1991 году не принесло избавления, вызвало разруху, хотя многим открылась чудовищная сущность коммунизма и, казалось, болезнь отступила? Может быть, это не выздоровление, а ремиссия – временное ослабление проявлений болезни, и её метастазы продолжают расползаться по организму? Или идеи коммунизма живут и побеждают, хотя и в других формах? Не переживали ли мы в девяностых новый приступ идейного помутнения?
Сменовеховцы, евразийцы, национал-большевики считали, что коммунизм – меньшее зло. Им казалось, что большевики ценою огромных жертв восстановили российское государство и защитили его от растлевающего влияния западной цивилизации, от агрессивных притязаний индустриальных держав. История кроваво опровергла эти иллюзии. Но когда пагубные последствия коммунистического господства стали очевидными, вновь возникают различные формы его апологии. Невозможно согласиться с мнением, высказанным в первой половине девяностых годов владыкой Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским: «Революционеры – разрушители, после уничтожения русской государственности ощутившие на себе всю полноту бремени державной ответственности, оказались вынужденными – пусть в изуродованной и извращенной форме – вернуться к вековым началам соборности». Изуродованная и извращенная соборность является чем-то прямо противоположным соборности, так же как изуродованный и извращенный, то есть ложный, облик Христа явит собой не кто иной, как антихрист. Большевики по природе вещей не способны ощутить на себе всю полноту бремени державной ответственности, тем более руководствоваться ею, ибо разрушали российское государство для того, чтобы заменить его антинациональной кровавой диктатурой – оплотом мировой революции.
Не соответствует трагической истории убеждённость коммунистов, что Советский Союз спас мир от фашизма. Гитлеризм победил не сталинизм, а русский народ. Советский коммунизм во многом спровоцировал приход к власти в Германии национал-социалистов, которые использовали реакцию общества на коммунистическую угрозу. (Нацистская пропаганда основывалась на уничтожении «еврейского коммунизма», «борьбе с азиатско-еврейской угрозой»). Сталин поддерживал нацистов в борьбе за власть, оказывал им экономическую помощь и в вооружении вермахта. Сталинские авантюры по разжиганию войн в Европе существенно повлияли на усиление Германии, на провоцирование Второй мировой войны. Сталинские пятилетки готовили страну к войне захватнической – на территории противника, а не оборонительной, отчего армия оказалась неспособной отразить превентивное нападение Германии. Сталинские чистки обескровили армию и общество перед войной, поэтому победа стоила невероятных жертв.
Разделение Европы, навязанное после войны Сталиным, на десятилетия ввергло мир в войну холодную, которую СССР проиграл. В борьбе за мировое господство коммунизма истощались силы России. Могущество Советского Союза, построенное на крови миллионов своих граждан, было однобоким и не выдержало, в конце концов, жесткой конкуренции с Западом. Причины беззащитности постсоветского общества перед культурной и экономической экспансией Запада следует искать в том, что железный занавес лишил нас возможности выработать иммунитет в здоровом соперничестве с западной потребительской цивилизацией и массовой культурой. Будто кто-то твердой большевистской рукой опустил этот занавес на десятилетия, чтобы в нужный момент поднять его. Всё, что составляло своеобразие и уникальность России, последовательно уничтожалось коммунистами. Интернациональный коммунизм радикально враждебен исторической России.
С февраля 1917 года началось своего рода вавилонское пленение России, не только были разрушены традиционное государство, хозяйство и культура, но и уничтожены жизненные центры национального организма. Поэтому восстановление может начаться с возрождения исторической памяти и национального самосознания. Прежде всего мы должны осознать, какие превращения в национальной душе привели к трагедии XX века?
Два русских гения осмысляют это в понятиях «социализм» и «болезнь». Ф.М. Достоевский характеризовал социализм как духовную одержимость, беснование, реализацию фантасмагорического бреда. Он говорил о трихинах, существах микроскопических, не сущих – не обладающих самостоятельной сущностью, но являющихся возбудителями и носителями болезни духа: «Идеи летают в воздухе, но непременно по законам, идеи живут и распространяются по законам слишком трудно для нас уловимым: идеи заразительны». Достоевский предвидел невиданный мировой мор: «Новое построение возьмет века. Века страшной смуты». А.И. Солженицын пишет роман «Раковый корпус», описывает ГУЛАГ в терминах раковой болезни, говорит о коммунизме как о раковой опухоли, о метастазах социализма, о вирусе коммунизма. Эти образы наиболее адекватно обозначают происшедшее: мы были тяжело больны духовно. Человечество накопило огромный опыт в опознании болезней тела и души, но к новым смертельным духовным болезням оказалось неподготовленным. Современное материалистическое и позитивистское сознание склонно отрицать сам факт такой болезни.
Последние двести лет российской истории определяются тем, что русская православная цивилизация противостоит экспансии тлетворных идеологий (современных духов мирового зла). С одной стороны, органичный уклад жизни и традиционное мировоззрение – всё, чем строилась и жила Россия в течение тысячелетия. С другой – атеистическая материалистическая утопия, волонтеры которой стремятся радикально перекроить жизнь. Богоборческая идеология чужда русскому народу, но ею заразился русский образованный слой, она вобрала в себя накопившиеся в русской культуре духовные яды, усилила нестроения, углубила расколы в русской истории. В результате общество впадало в идейную манию, которая и была причиной катастрофы 1917 года.
Чтобы вменяемо действовать, необходимо осмыслить природу этой болезни и её носителей, определить, что она искажает в душе; как поражает сознание – личное и коллективное, как продукты воспаленного сознания взрывают историю, культуру, общество; каким образом генерируется поле заражения и как в идеологической атмосфере формируется система искажённых представлений – мифов, фикций, иллюзий, а ложные идеи в культуре (духовные вирусы) оказываются носителями и возбудителями болезни духа.
Атеистическая материалистическая идеология, воплощение которой неизбежно приводит к тотальной лжи и насилию, массовому истреблению людей и разрушению органичной жизни, была сформирована в западноевропейской культуре. Свирепый английский король Генрих VIII и череда французских кровавых королей имеют к этому не самое прямое отношение, но всё же более близкое, чем Иван Грозный и Петр I. Однако многие авторы именно с этими российскими персонажами всё еще связывают извечный русский тоталитаризм.
Россия не была идеальным царством; как у всех, было в её истории темное и греховное, но всё же русский народ был к себе нравственно взыскательным. В России не зародились атеистические материалистические учения, а русские деятели века Просвещения от Ломоносова до Державина были глубоко верующими людьми, в отличие от французских просветителей. Вместе с тем Россия оказалась почвой, на которой семена нигилистической идеологии дали самые кровавые всходы.
Духовное помутнение – это болезнь культуры и общества, поэтому в отличие от психических болезней оно может захватывать массы людей. Причиной психических заболеваний является нейрофизиологическая патология и травмы индивидуального подсознательного или бессознательного. Духовное же помутнение внедряется через сознание, поражая сферу бессознательного и волю, превращая человека в идеомана. Западноевропейская культура породила различные виды идеомании: материализм, атеизм, рационализм, идеализм, позитивизм, постмодернизм. Это своего рода штудии интеллектуальной деградации, этапы прогрессирующего паралича личности, которые подготавливают её к восприятию агрессивных массовых социальных галлюцинаций – коммунизма, социализма, фашизма. Так как возбудители идейного беснования были выращены в европейских лабораториях мысли, европейское общество выработало противоядие и переболело в легких формах. Россия же оказалась лишённой иммунитета: в течение предреволюционного столетия идеологические трихины прививались на незащищенную почву и потому дали зловещие плоды.
«На Западе социализм лишь потому не оказал разрушительного влияния, и даже наоборот, в известной степени содействовал улучшению форм жизни, укреплению её нравственных основ, что этот социализм не только извне сдерживался могучими консервативными культурными силами, но и изнутри насквозь был ими пропитан; короче говоря, потому что это был не чистый социализм в своём собственном существе, а всецело буржуазный, государственный, несоциалистический социализм… Внешне побеждая, социализм на Западе был обезврежен и внутренне побежден ассимилирующей и воспитательной силой давней государственной, нравственной и научной культуры» (С.Л. Франк). Фантасмагории европейских маньяков у нас превратились в катехизис для образованного общества. Российский национально-государственный организм оказался беззащитным перед экспансией чёрной духовности потому, что был ослаблен чередой исторических испытаний.
Сказанное не означает, что всё зло в человеке происходит от идеологии. Но идеологическая маниакальность усиливает человеческие пороки, разлагает духовную основу личности. Концентрируя человеческие заблуждения, идейная одержимость овладевает обществом, в невиданной форме с роковой внезапностью вторгается в судьбу народа. Она разрастается до эпидемий, до массового мора, захватывает огромные пространства и коллективы людей. Последние сто пятьдесят лет отличаются огромным влиянием на души людей идеологии как новой формы зла. Основной диагноз российских бедствий – идеологическое разложение христианских основ жизни.
Почему радикальные идеологические доктрины оказались наиболее разрушительными в России именно в тот момент, когда она была близка к процветанию?! Премьер-министру Петру Аркадьевичу Столыпину за несколько лет удалось развернуть огромную страну на путь плодотворных преобразований. «И в те же самые годы мощно росла буржуазная Россия, строилась, развивала хозяйственные силы и вовлекала в рациональное и европейское и в то же время национальное и почвенное дело строительства новой России. Буржуазия крепла и давала кров и приют мощной русской культуре. Самое главное, быть может: лучшие силы интеллигентского общества были впитаны православным возрождением, которое подготовлялось и в школе эстетического символизма, и в школе революционной жертвенности» (Г.П. Федотов). В начале XX века Россия оставалась крестьянской страной (крестьян – 80% населения), вместе с тем она входила в пятёрку наиболее развитых промышленных стран, а прирост производства был одним из самых высоких в мире. Это сопровождалось быстрым ростом населения. За два десятилетия до мировой войны в России резко увеличилось потребление жизненно важных для большинства населения товаров, одновременно вдвое увеличились крестьянские взносы в сберегательные кассы. Быстрыми темпами развивалась кооперация, охватившая более половины сельского населения страны. В результате совершенствования рабочего законодательства юридическое положение рабочих в России было лучше, чем в США и Франции. Россия обладала высокой притягательностью для других народов: была вторым после США центром иммиграции в мире. В конце 1913 года известный французский редактор Эдмонд Тэри, которого французское правительство специально направило в Россию для изучения столыпинских реформ, писал: «Если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом с 1912 по 1950 г., как они шли с 1900 по 1912 г., то к середине текущего столетия Россия будет доминировать в Европе, как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении». Эти выводы подтвердила немецкая комиссия во главе с профессором Аугагеном: через десять лет Россию не догонит никакая страна. В сороковые годы Иван Солоневич писал о возможных результатах развития России: «При довоенном темпе роста русской промышленности Россия сейчас имела бы приблизительно в два раза большую промышленность, чем СССР. Но без сорока или даже ста миллионов трупов».
Возрастание могущества России не устраивало определённые мировые силы, которые всячески поддерживали революционное брожение и подталкивали её к мировой войне. Большинство интеллигенции не ценило положительных преобразований, пребывая в маниях: страна – «азиатская», власть – враждебная. Россия оказалась ослабленной историческими испытаниями, беззащитной перед идейным заражением с Запада, с предательской колонной в образованном обществе Ленин поэтому назвал Россию слабым звеном в цепи капиталистических государств – слабым перед молотом мировой революции.. Могучая процветающая страна оказалась пропитана возбудителями духовного разложения. В результате наша Родина стала первым полигоном для широкомасштабного испытания идейной чумы, была превращена в общемировой раковый корпус.
Коммунистический режим принято определять как тоталитаризм – всевластие государства, или партократия – диктатура партии. Прежде всего это идеократия – тотальная власть радикальной идеологии. Партия как субъект идеологической экспансии подчиняла идеологии государство, общество, сознание и образ жизни людей. Идеократию учреждали не только коммунисты и фашисты, эта прельстительная идея эпохи имела интеллигентские аналоги. Евразийцы идеократией называли государство нового типа – идеал евразийского государства. Они считали, что сталинизм испорчен коммунистической идеологией, но идеократия евразийцев списана с большевизма и является типичной тоталитарной утопией.
В первой главе рассматривается внедрение идеология небытии в русскую культуру и общество, формы и этапы её экспансии. Затем анализируется феномен советского коммунизма, режим государственной власти идеологии – идеократии в её истоках, динамике и превращенных формах. Публикации на эту тему могли набить оскомину, но общество до сих пор не осмыслило причин сатанинской жизнестойкости марксизма-коммунизма. Далее будут рассмотрены этапы внедрения, победы, экспансии, внутреннего разложения и мимикрии идеократии («безбожной теократии», по словам протоиерея Сергия Булгакова) в России.
Глава 1. ПЯТАЯ КОЛОННА «Пятая колонна» – со времён гражданской войны в Испании название широкой тайной вражеской агентуры в тылу противника. В данном случае – образное именование тех социальных групп, которые в силу исторически сложившейся прозападной ориентации сознательно или неосознанно разрушали традиционный уклад и духовные ценности русской православной цивилизации. ИМПЕРИИ (XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)
Предварение
В объяснениях российской катастрофы ХХ века господствуют противоположные позиции. С одной стороны, бедственные итоги революционного эксперимента пытаются объяснить русским «азиатским» характером, не поддающимся общечеловеческому, то есть западноевропейскому, просвещению. На российской «бескультурной» почве были якобы искажены высокие идеалы марксизма и воздвигнута очередная ступень традиционной российской деспотии: Грозный – Пётр – Сталин. Русофобскую концепцию пытаются опровергнуть другой крайностью русские националисты: русская революция осуществлена международными ландскнехтами коммунизма, а все беды России объясняются действием тайного мирового заговора, жидомасонства.
Россию нельзя целиком вписать в сферу европейской культуры. Но так ли это плохо для России и мира, является ли европейская культура единственно возможным и общечеловеческим вариантом культуры? Существует альянс антироссийских международных сил, но только ли его действиями можно объяснить падение великого народа и разрушение великой цивилизации? Как и всякая антисоциальная революция, русская революция мобилизовала асоциальные элементы страны. Она привлекла интернациональный маргиналитет: инородцы сыграли выдающуюся роль в российской трагедии. Но для нас жизненно важно определить вину русского общества в трагедии отечества. Основным для русских людей должен быть вопрос: почему Россия оказалась беззащитной перед инородными идеями истребления традиционной культуры и органичных форм жизни? Каким образом сформировался в России тип человека, который оказался носителем разрушения и самоуничтожения? Как воспитались русские люди, чьи безответственные речи в Государственной думе расшатывали вековечные устои, чье легкомысленное обращение с властью в 1917 году ввергло страну в хаос? Как образованные сословия способствовали разложению русского простолюдина, который во времена тяжких испытаний проявлял чудеса верности и храбрости, но в роковой момент изменил своему долгу на фронте, в военное время, которое исконно было для русских людей временем защиты святынь? Почему издавна трудолюбивый и православный крестьянский народ отказывался работать, сжигал усадьбы, осквернял храмы?
Данная глава расширяет темы главы «Орден русской интеллигенции (XIX век)» в рассмотрении драматического вопроса: как в российском обществе формировались носители враждебных для русской православной цивилизации идей, организаторы гибельных революционных потрясений?
Носитель духовной заразы
На самосознании русской интеллигенции не мог не сказаться русский национальный характер. Но экзистенциальная беспочвенность обрекала интеллигенцию на ущербность, многие достоинства русского народа не воспринимались образованными сословиями, а усвоенное – искажалось. Некоторые черты национального характера кривозеркально отразились в характере интеллигенции. В свою очередь, трактовка характера русского народа представителями интеллигентского сообщества оказывалась предвзятой.
Исконное тяготение русского человека к религиозному осмыслению жизни при отрыве от Православия приобретало в интеллигенции искажённые формы. Русские культурные сословия увлекались религиозными суррогатами, что расшатывало нравственно-волевой стержень. Секуляризация европеизированных сословий в течение двух предреволюционных столетий обрывала связи с почвенной православной культурой. «Второе уже столетие модный всесветный атеизм, потекши в Россию через умы екатерининских вельмож – и вниз, и вниз, до сынов сельских батюшек, залил все сосуды образованного общества и отмыл его от веры. Для культурного круга России решено давно и бесповоротно, что всякая вера в небесное или полагание на бестелесное есть смехотворный вздор или бессовестный обман – для того, чтобы отвлечь народ от единственно верного пути демократического и материального переустройства, которое обеспечит всеобщее благоденствие, а значит и все виды условий для всех видов добра» (А.И. Солженицын). Идея, нарождающаяся в традиции, гармонично раскрывается и соотносится с высшими ценностями. В атеистической атмосфере господствуют радикальные мифы или фикции. Иллюзия «русского Запада» принуждала заимствовать худшее в европейской цивилизации: «Все эти русские нигилисты, материалисты, марксисты, идеалисты, реалисты – только волны мертвой зыби, идущей с немецкого моря в Балтийское. – Что ему книга последняя скажет, – То ему на душу сверху и ляжет» (Д.С. Мережковский). Теряя национальную самобытность, интеллигенция оказывается в удушающих идейных тупиках Европы. Образованное общество XIX века стремительно и остро переболело всеми формами европейских идеологических увлечений – от идеализма до марксизма: «Шеллинг и Кант, Ницше и Маркс, эротика и народовольчество, порнография и богоискательство. Всё это выло, прыгало, кривлялось на всех перекрестках русской интеллигентской действительности» (И.Л. Солоневич).
Русских людей всегда волновали идеалы сами по себе. Мировоззрение интеллигенции было избыточно идеалистично, оторвано от исторической реальности, непонимание которой компенсировалось её нигилистическим отрицанием. «Нигилизм… есть одно из проявлений напряженной идеальности русского ума и сердца» (Н.Н. Страхов).
Многое в мировоззрении русской интеллигенции определялось евразийским синдромом – серединным положением России, понуждающим осознать проблему «Россия и Запад». Россия есть и Запад, и Восток одновременно. Христианская Россия открыта Востоку больше, чем кто-либо на Западе, обращена к Западу больше, чем кто-либо на Востоке. В этом синтезе – своеобразие русской цивилизации. Стремясь обрести свой путь, Россия обращается к Западу и Востоку, но в то же время и отталкивается от них. Отражая это объективное положение, русское образованное общество было склонно к своего рода восточному восприятию Запада и западной ориентации на Восток. Русское общество опасалось пороков Запада, но, защищаясь от них, отгораживалось и от его достижений; открываясь же Западу, оно воспринимало и его ложь. Крайне восточную форму приобретали в российском обществе заимствованные заблуждения Европы. То, что в Европе носило характер детских инфекций, в России превращалось в опустошительные эпидемии. Отсюда двойственное отношение русских к Европе, ярко выраженное у Достоевского. Вслед за Хомяковым он повторяет, что Европа – это страна святых чудес, но, с другой стороны, католицизм, считает он, – это христианство без Христа, а европейская культура является приготовлением пришествия антихриста. В этом сказывались и чувство всеевропейской родственности, и ощущение исходящей из Европы опасности. Сложность взаимоотношений России с Западом задана объективно – в силу геополитического положения, исторической судьбы. Вместе с тем эти отношения болезненно усугубляются определёнными чертами русского характера, а также нездоровой западнической ориентацией образованных слоёв – иллюзией «русского Запада».
Для русского человека идея имеет непосредственное отношение к действию, идеи – уже поступки. При русском максимализме западные гипотезы становились аксиомами действия, императивами политической воли. Маниакальные идеи европейских одиночек в России обращались в нравственный катехизис общества. «Современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез; потому что, что там гипотеза, то у русского мальчика тотчас же аксиома, и не только у мальчиков, но, пожалуй, и у ихних профессоров, потому и профессора русские весьма часто у нас теперь те же русские мальчики» (Ф.М. Достоевский).
Безрелигиозное сознание склонно к максимализму, радикализму, утопизму. «Когда русский интеллигент делался дарвинистом, то дарвинизм был для него не биологической теорией, подлежащей спору, а догматом, и ко всякому не принимавшему этого догмата… возникало морально подозрительное отношение… Тоталитарно и догматически были восприняты и пережиты русской интеллигенцией сен-симонизм, фурьеризм, гегельянство, материализм, марксизм, марксизм в особенности. Русские вообще плохо понимают значение относительного, ступенность исторического процесса, дифференциацию разных сфер культуры. С этим связан русский максимализм. Русская душа стремится к целостности, она не мирится с разделением всего по категориям, она стремится к Абсолютному и всё хочет подчинить Абсолютному, и это религиозная в ней черта. Но она легко совершает смешение, принимает относительное за абсолютное, частное за универсальное, и тогда она впадает в идолопоклонство. Именно русской душе свойственно переключение религиозной энергии на нерелигиозные предметы, на относительную и частную сферу науки или социальной жизни» (Н.А. Бердяев).
В отличие от русского ума и сердца западное сознание проникнуто здоровым скепсисом, тамошние крайности уравновешивают друг друга, на всякого увлеченного достаточно скептиков и циников. Поскольку западному человеку несвойственно страстное стремление к абсолютному, его интеллектуальные поиски носят частный и гипотетический характер. По мере нарастания заблуждений в обществе вырабатываются «противоядия». Это позволяло западноевропейской цивилизации сохранять равновесие. В России заражение европейскими идеями привело к катастрофе. «Русская цельность стала причиной того, что западные идеи не привили русской душе западные нормы, а вскрыли разрушительные силы. Запад победил эгалитарно-социалистические идеи равнодушием; русский же максимализм, своеобразно проявившийся и в среде безбожной интеллигенции, превратил эти идеи в псевдорелигию. Западный плюралистический корабль со множеством внутренних переборок, получая пробоину в одном отсеке, держался на плаву благодаря другим. Русский же цельный корабль потонул от одной пробоины» (М.В. Назаров).
Сыграл роль и некий надрыв в национальной душе. После Петра I в русской культуре шли два параллельных процесса, которые особенно обострились в XIX веке. С одной стороны – святость Серафима Саровского, оптинских старцев, великая русская литература, рост государственного могущества, стремительное развитие экономики свидетельствовали о духовном подъёме в России. Одновременно нарастала духовная болезнь, которая вызвана чужеродными и гибельными для русской цивилизации радикальными идеями. Идеологический шквал обрушился на Россию в критический переходный момент, когда душа нации оказалась перенапряженной, незащищенной и особенно ранимой. Оттого все идейные увлечения переживались крайне остро и болезненно. В результате в течение XIX века накапливались идейные яды, каждое поколение наследовало всё большую идеологическую интоксикацию. Какой-то страшный рок преследовал в России всех вовлеченных в идеологический поток. Каждый мог чувствовать, подобно герою романа Достоевского: «Как будто его кто-то вёл за руку, потянул за собой неотразимо, слепо, неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины и его начало втягивать». Как и Раскольников, участники разворачивающейся трагедии «вдруг почувствовали, что нет у них более ни свободы рассудка, ни воли». Вступившие на этот путь прошли его до гибельного конца, новые же поколения передавали эстафету помрачения и агрессии во всё более острой форме.
Первыми идеоманами на русской почве были декабристы, для которых модные европейские идеи превратились в повелевающие догмы. Одни хотели, чтобы общество (прежде всего они сами) было освобождено от гнета власти немедленно (что чревато кровавыми потрясениями). Революционные «реформаторы» подтачивали жизненные основы, будучи убежденными, что их совершенствуют. Другие зло современности (а в какой современности нет зла?!) списывали на существующую власть и потому стремились её низвергнуть. Радикалы-революционеры рушили устои во имя утопий. К ним присоединялись авантюристы, самоутверждающиеся на модных идеях, использующие революционную экзальтацию для шкурных интересов.
В общем, по горестному замечанию А.С. Грибоедова, «сто человек прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России». Грибоедов в комедии «Горе от ума» до восстания декабристов описал феномен нарождающейся в России идейной мании: «Грибоедов лишь на одну минуту отдернул внешнюю завесу и увидел, что за привлекательным “вольтерьянством” Чацкого скрываются Репетилов и его “союзники” – беснующиеся и кривляющиеся. Это было великим открытием. Потом “революционный бес”, едва мелькнувший в грибоедовской комедии, явит себя во всей полноте и будет многократно обрисован в русской литературе. Открытием было и то, что в фигуре Репетилова Грибоедов впервые показал отсутствие у революционеров бытийного стержня и вытекающую отсюда подражательную, паразитическую природу любой Революции» (Г.А. Анищенко). Беспочвенный и бездейственный интеллигент, смутно любящий отечество (Чацкий) оказывается идейным отцом безыдейной обезьяны, преисполненной хаотической разрушительной силы (Репетилов). Может быть, в названии комедии Грибоедов указывает: что идеологическая маниакальность как не горе от ума.
Декабристы радикализировали сознание образованного общества: естественное разномыслие начала XIX века болезненно усугубляется и приводит к расколу на непримиримые группы. Западники и славянофилы, христианин Аксаков и социалист Герцен, мистик Гоголь и атеист Белинский говорят на разных языках. Идейное противостояние обострялось радикальностью позиций. Прекраснодушный идеалист Белинский перерождается в агрессивного атеиста (чуткая и неустойчивая душа Белинского была своего рода индикатором общественной атмосферы): «Он предшественник Чернышевского и, в конце концов, даже русского марксизма… У Белинского, когда он обратился к социальности, мы уже видим то сужение сознания и вытеснение многих ценностей, которое мучительно поражает в революционной интеллигенции 60-х и 70-х годов» (Н.А. Бердяев). Идеалист Герцен становится социалистом. Славянофильство вырождается в непримиримый национализм. Идеалисты-западники эволюционируют в жёстких реалистов, эмпиристы скатываются в нигилизм. Нигилисты начали с препарирования лягушек, а пришли к красному петуху и перебору людишек. Народовольцы пошли в народ с возвышенными идеалами, а кончили тем, что призвали Русь к топору. Идеалы свободы и братства незаметно перетекали в призывы к насилию и крови. Мечтатели-фантазеры превращались в одержимых маньяков, образ мысли становился всё более безапелляционным, а действия агрессивными. Новые поколения сбрасывали с корабля современности сентиментальный идеализм отцов, чтобы заменить его действенным реализмом. Плеханов оказался «идеалистом» по отношению к Ленину, а ленинская гвардия слишком «идеалистична» на фоне сталинской. Каждый этап более враждебен по отношению к предыдущему и к «ренегатам»: марксисты агрессивнее народников, большевики агрессивнее меньшевиков, сталинцы агрессивнее ленинцев. Каждая идеологизированная когорта отрицает предшествующую. В итоге столетняя радикализация интеллигенции окончательно подчиняет её агрессивным инстинктам – на сталинских соколов слова воздействуют бессознательно, как сигналы включения агрессивных аффектов.
От поколения к поколению сознание интеллигенции становилось более ограниченным и примитивным – не улавливало сути проблем и «скользило» по поверхности. Мировоззренческий горизонт резко сужался, но возрастали апломб и самонадеянность. Любомудры в начале XIX века искренне хотели знать все. Славянофилы и западники ещё стремились понять многое. Шестидесятники были убеждены, что знают все. Народники по сравнению с марксистами выглядят мудрецами. Либеральные марксисты в сравнении с ортодоксальными – почти энциклопедисты. Суживается сознание марксистов по сравнению с народниками, большевиков по сравнению с меньшевиками, сталинской «гвардии» по сравнению с ленинской. Прогрессирующая дегенерация сознания сопровождалась моральной деградацией. Из десятилетия в десятилетие общественное мнение раскрепощалось – освобождалось от нравственных и религиозных «предрассудков», становилось более нетерпимым, агрессивным. В глазах общественности 1870-х годов террорист выглядит героем, убийца – правдоискателем. Агрессивное большинство общества клеймит позором власть, которая робко пытается защититься от бомбометателей, воюющих за «справедливость». Общественное мнение благосклонно к «героям», создает для них щадящие условия. В атмосфере терпимости к террористам им удается заминировать одну из комнат Зимнего дворца.
В середине XIX века в среде интеллигенции кристаллизуется орден единомышленников, или Малый народ, мировоззрение которого сводится к революционным догмам. Идеологизация сознания окончательно отторгает его от традиционной культуры и формирует установку на её разрушение. В ордене русской интеллигенции – эпицентре идеологического сообщества – формируются «новые» идеалы: перевод интернациональных революционных догм на язык российской действительности. В интеллектуальных лабораториях (споры русских мальчиков в трактирах) разрабатывается идеология глобального переустройства России, что участники вполне сознавали с самого начала: «В сущности, дело тут шло об определении догматов для нравственности и для верований общества и о создании политической программы для будущего развития государства» (П.В. Анненков). Идеологическая когорта через публицистику расширяет поле заражения, разлагая традиционный жизненный уклад, ввергая общество в революционные потрясения. Постепенно в образованном обществе органичные жизненные идеалы девальвируются и вытесняются новыми идеями, особую злобу вызывает Православие. Культурные, социально-политические, экономические, государственные скрепы общества, при видимой нерушимости, расшатываются, их ценностная очевидность угасает.
Предельная идеологическая одержимость выражена в «Катехизисе революционера» Нечаева – протоуставе всех партийных уставов. Чутких людей это ужаснуло, и появляются «Бесы» Достоевского. Но большинство общества глухо к этим предостережениям, события шли заведенным ходом: догмы, выношенные маниакальными одиночками в лабораториях пораженного сознания, накаляли общество, лихорадили умы и превращались в руководство к действию. Когда были отшлифованы радикальные программы, революционная интеллигенция переходит к революционной практике: «В России 60–70-х годов XIX в. при широкой поступи реформ – не было ни экономических, ни социальных оснований для интенсивного революционного движения. Но именно при Александре II, от самого начала его освободительных шагов, – оно и началось, скороспелым плодом идеологии: в 1861-м – студенческие волнения в Петербурге, в 1862-м – буйные пожары от поджогов там же и кровожадная прокламация “Молодой России”, а в 1866-м – выстрел Каракозова, начало террористической эры на полвека вперёд» (А.И. Солженицын). Революционный террор начался не как скороспелый, а вполне вызревший плод идеологии. Объективных оснований для революции не было, но орден русской интеллигенции радикализировался уже несколько десятилетий. Раскольников поднял топор убийцы, подчиняясь идейной мании, русская интеллигенция перешла от радикальных идей к поджогам, выстрелам, взрывам под воздействие идеомании. «К концу 70-х годов российское революционное движение уже катилось к террору: бунтарский бакунизм тогда окончательно победил просветительный лавризм. С 1879-го взгляд “Народной воли”, что народническое пребывание среди крестьян бесполезно, – взял верх над чернопередельским отрицанием террора. Только террор!! И даже: террор систематический! (И не тревожила их безотзывность народа и скудность интеллигентских рядов.) – Террористические акты – и даже прямо на царя! – зачередили один за другим» (А.И. Солженицын). Ибо успешные реформы царя-освободителя могли лишить революционеров перспектив в России.
К концу XIX века революционная интеллигенция разочаровывается в идеалах народничества как недостаточно радикальных и слишком «почвенных». Европейский марксизм – наиболее радикальная идеологическая доктрина – воспринимается как «свежий ветер с Запада» (С.Л. Франк), как неозападничество. Расслабленному интеллигентскому сознанию марксистская утопия может показаться новой «наукой». Марксизм как концепция тотального исторического произвола нёс систему жёстких мер, которые требовались «отсталой» и усталой от своей «непросвещенности» России для «прогресса» и приобщения к достижениям мировой цивилизации. Пароксизм Пароксизм – возбуждение, судорога, острый приступ. марксизма пережили многие русские мыслители, которым предстоял искупительный возврат в отчий дом: от марксизма к идеализму – и к Православию.
К началу XX века формируется новый тип человеческого сообщества – партия («немногочисленная, но, безусловно, преданная группа сообщников» – Ленин), с помощью этого рычага перевернули Россию. Власть захватывается для построения общества всеобщей идеологической перековки.
Вековечные представления о том, чего делать нельзя и что делать должно, размывались постепенно. К сталинскому кредо: для блага режима делать можно всё русское общество шло десятилетиями. На вопросы декабристов, можно ли для блага России уничтожить царствующую династию, и вопрошания русских мальчиков, можно ли для счастья миллионов убить одну зловредную вошь, был дан окончательный ответ самой передовой в мире теорией в самой свободной в мире стране: уничтожать общественно необходимо десятки миллионов людей. Идейная мания Белинского выражала атмосферу эпохи: «Во мне развивалась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которая возможна только при обществе, основанном на правде и доблести… Я теперь в новой крайности – это идея социализма, которая стала для меня идеей новой, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Всё из неё, для неё и к ней… Безумная жажда любви всё более и более пожирает мою внутренность, тоска тяжелее и упорнее… Личность человеческая сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума… Я начинаю любить человечество по-маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнём и мечом истребил бы остальную… Социальность, социальность или смерть!» Абстрактные «сто тысяч голов для спасения человечества» Белинского превращаются во вполне реальную цифру – сто миллионов уничтоженных коммунистическим режимом.
Идеологические увлечения – не безобидная игра ума. Трудно заметить преемственность между идеалистическим прекраснодушием любомудров и каннибализмом большевиков. Россия исторической практикой доказала наличие причинно-следственной связи между всеми идеологическими формами. Безобидными некоторые виды идеологии только кажутся. Увлечение мягкой формой умственного недуга перерождает сознание и неизбежно влечёт к радикализму. Идеология есть род болезни духа, которая начинается с безобидных сомнений в богочеловеческих основаниях бытия и приводит к прогрессирующему расчеловечению. Идеализм привлекает грандиозностью мыслительных построений, рационализм – жёсткой последовательностью и логичностью, эмпиризм – убедительной очевидностью, атеизм – предельной «принципиальностью», материализм – основательностью жизненного устройства, позитивизм – иллюзией здравомыслия. На всех стадиях ничто не пугает, не провозглашается ничего страшного. Окончательно успокаивает респектабельный позитивизм. Когда происходят действительно страшные вещи, совесть настолько притуплена, а сознание ограниченно, что человек не улавливает опасного смысла радикальных лозунгов.
В 1862 году Достоевский нашёл в своей двери революционную листовку, которая распространяла умственные яды, погубившие Россию через несколько десятилетий: «Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя, знамя будущего, знамя красное, и с громким криком: “Да здравствует социальная и демократическая республика русская!” – двинемся на Зимний дворец истребить живущих там… С полною верою в себя, в свои силы, сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой выпало на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: “В топоры”, – и тогда… бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам!» Подобные призывы вызывали в либеральном обществе не содрогание, а симпатии за «смелость» и «принципиальность» в борьбе с «реакционным самодержавием», в лучшем случае – равнодушие, что и способствовало реализации этой патологической ненависти.
Идеологический маховик затягивает попавших в него хотя бы клочком одежды. Сначала: всемирная социалистическая революция для счастья всего человечества, отсюда – нравственно то, что служит революции. Кто не служит – классовый враг, если враг не сдается – его уничтожают. Для тех же, кто призван уничтожать, – успокаивающее: революцию в перчатках не делают. Оправдание того факта, что в «колесо» революции попадают и не враги: лес рубят – щепки летят. Люди, так думающие, продолжают рожать детей и даже любить их, способны интенсивно работать, вроде бы по-человечески общаются, дружат, любят, но в чем-то они уже нелюди, ибо ощущение самоценности и неприкосновенности личности ими утрачены. Всякий человек признается таковым только в той степени, в какой соответствует идеологической норме. Если отменены незыблемые духовные основы бытия, то нет и абсолютно недозволенного. Дегуманизация не знает пределов: идеологические критерии санитарного диагноза – свой или чужой – перманентно меняются вслед за изменением линии идеологической власти. Генеральная линия партии определяет сферы жизни и слои общества, назначенные к идеологической перековке либо к уничтожению. В мясорубку отправляются бесконечные ряды новых врагов – вплоть до вчерашних соратников. Идейная одержимость не имеет самоограничения, идеологическое истребление самостоятельно остановиться не может. Конечный итог идеологической экспансии – самоистребление после истребления всего вокруг.
Роковую неотвратимость последствий духовного ослепления описывает современный ученый: «Десятилетия общепризнанного нигилизма и атеизма не прошли даром для массы, моральный уровень её постепенно, но неуклонно понижался. В 1848 г. в кружке Петрашевского студенты кушают кулич на Страстной, а в 60-х уже Нечаев создает свой “Катехизис революционера”; в конце 70-х народовольцы охотятся на царя, а в начале ХХ в. убийства государственных чиновников становятся уже рядовым явлением; в конце XIX в. существование нелегальных партий и кружков порождает идеологию обособления и странную смесь из страстной привязанности и альтруизма, направленных на определённый круг лиц (и часто ещё на абстрактно понимаемый “народ”), и презрения, подозрительности и прямой ненависти, направленных на всех остальных конкретных людей. Лицемерие, предательство, подозрительность становятся частью повседневной жизни; методы же межпартийной и политической борьбы, практикуемые в ХХ в., могут вызвать дрожь у всякого неподготовленного порядочного человека. И эта всё более деморализующаяся масса разночинцев страстно желает руководить также постепенно деморализующимся народом, который в начале века переживает период бурного распадения общинных отношений и переполняет города, теснясь на фабриках, заводах и в мастерских. Вот этот-то неуклонно совершающийся процесс и определил, в конечном счёте, основное направление развития нашей русской истории в первой половине ХХ в.» (К. Касьянова). Растёт пропасть между интеллигенцией и всем, что составляет сущность российской жизни: Православием, государственностью, властью, народом – верой, царём и отечеством. К обличающему пророческому гласу русских гениев интеллигенция была глуха.
Болезни либерального общества
Русская интеллигенция к середине XIX века раскалывается на радикальную и либеральную. Радикалы маниакально сосредоточиваются на болезненно воспаленном «социальном» вопросе. Формируется орден русской интеллигенции с характерными его признаками. Посвящённость в общее революционное дело, утопические представления о главных нуждах общества отрывают человека от реальной действительности («Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа» – Ленин). Либеральная интеллигенция склоняется к скептическому позитивистскому созерцанию с атеизмом, материализмом. Общественно-политическое мировоззрение либерального общества в силу аморфности зависимо от радикального фланга.
Либералы разделяли общеинтеллигентскую беспочвенность. «У нас до сих пор либералы были только из двух слоёв: прежнего помещичьего (упраздненного) и семинарского. А так как оба сословия обратились, наконец, в совершенные касты, в нечто совершенно от нации особливое, и чем дальше, тем больше, от поколения к поколению, то, стало быть, и всё то, что они делали и делают, было совершенно не национальное… Не национальное; хоть и по-русски, но не национальное; и либералы у нас не русские, и консерваторы не русские, все… И будьте уверены, что нация ничего не признает из того, что сделано помещиками и семинаристами, ни теперь, ни после» (Ф.М. Достоевский).
Западный либерализм развился в недрах национальных культур и был конструктивным. Вненациональность либеральной русской интеллигенции превращает её в антинациональное сословие: «Что же есть либерализм… как не нападение (разумное или ошибочное, это другой вопрос) на существующие порядки вещей?.. Русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нём смех и чуть не восторг, он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм (о, вы часто встретите у нас либерала, которому аплодируют остальные и который, может быть, в сущности самый нелепый, самый тупой и опасный консерватор, и сам не знает того!). Эту ненависть к России ещё не так давно иные либералы наши принимали чуть не за истинную любовь к отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чёмона должна состоять; но теперь уже стали откровеннее и даже слова “любовь к отечеству” стали стыдиться, даже понятие изгнали и устранили как вредное и ничтожное… Факт этот в то же время и такой, которого нигде и никогда, спокон веку и ни в одном народе не бывало и не случалось… Такого не может быть либерала нигде, который бы самое отечество своё ненавидел» (Ф.М. Достоевский).
Без религиозных основ мировоззрение образованного общества преисполнено различных фантомов: «Без веры в свою душу и в её бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо… Одно из самых ужасных опасений за наше будущее состоит именно в том, что, на мой взгляд, в весьма уже, в слишком уже большой части интеллигентного слоя русского по какому-то особому, странному… ну хоть предопределению всё более и более и с чрезвычайною прогрессивною быстротою укореняется совершенное неверие в свою душу и в её бессмертие. И мало того, что это неверие укореняется убеждением (убеждений у нас ещё очень мало в чёмбы то ни было), но укореняется и повсеместным, странным каким-то индифферентизмом к этой высшей идее человеческого существования, индифферентизмом, иногда даже насмешливым, Бог знает откуда и по каким законам у нас водворяющимся, и не к одной этой идее, а и ко всему, что жизненно, к правде жизни, ко всему, что даёт и питает жизнь, даёт ей здоровье, уничтожает разложение и зловоние. Этот индифферентизм… давно уже проник и в русское интеллигентское семейство и уже почти что разрушил его. Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация… А высшая идея на земле лишь одна и именно – идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные “высшие” идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из неё одной вытекают» (Ф.М. Достоевский).
Денационализированная культура формировала поколения со внеисторическим мировоззрением и неадекватными действиями. Дочь русского поэта Анна Федоровна Тютчева пишет о тлетворных установках, которые насаждались через учебные заведения: «Это поверхностное и легкомысленное воспитание является одним из многих результатов чисто внешней и показной цивилизации, лоск которой русское правительство, начиная с Петра Великого, старается привить нашему обществу, совершенно не заботясь о том, чтобы оно прониклось подлинными и серьезными элементами культуры. Отсутствие воспитания нравственного и религиозного широко раскрыло двери пропаганде нигилистических доктрин, которые в настоящее время нигде так не распространены, как в казенных учебных заведениях».
Сам Ф.И. Тютчев с горечью писал о распространенных в либеральном обществе антирусских умонастроениях: «Это русофобия некоторых русских людей – кстати, весьма почитаемых… Раньше они говорили нам, что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы печати и т.д. и т.п., что потому именно они так нежно любят Европу, что она, бесспорно, обладает всем тем, чего нет в России… А что мы видим ныне? По мере того как Россия, добиваясь большей свободы, всё более самоутверждается, нелюбовь к ней этих господ только усиливается».
Показательны воспоминания книгоиздателя М.В. Сабашникова. Поколениями купечество Сибири развивало хозяйство России. К концу XIX столетия многие деловые люди осознали, что накопленные богатства должны послужить и культурному процветанию Родины. Отец братьев Сабашниковых строит в Москве дом, который становится центром творческого общения и поддержки художественной элиты. Братья получают прекрасное европейское образование и приобщаются к современной культуре. Они воспитаны в атмосфере русской семьи, где господствовали взаимная любовь и доверие. Этот прекрасный человеческий тип был распространен в России конца XIX – начала XX века. Братья Сабашниковы продолжают благотворительную деятельность отца: устраивают больницы, строят храмы, помогают голодающим, организуют на свои средства книгоиздательство. Патриотическое служение не было исключением в рядах русских промышленников, купечества и земства. Однако сознание их было секуляризованным, поэтому они не осознавали нужды многовековой отечественной культуры, не видели вызовы эпохи, а значит, не были способны к полноценному служению обществу и отечеству.
Отчего люди, выросшие в традициях, становились позитивистами, атеистами, материалистами? Достоевский пытливо доискивался ответа на вопрос: как и почему произошел этот вывих у традиционно воспитанных русских мальчиков? Как он сам, «происходивший из семейства русского и благочестивого», с детства верующий и богобоязненный, дошел до отрицания Бога? «Мы в семействе нашем узнали Евангелие чуть не с первого детства… Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным», – вспоминал писатель. Он вынужден был с горечью признать: «Я скажу Вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой покрышки». Духовное разложение проникало сквозь стены русских домов в семьи, разрушая малую Церковь, которая была последним оплотом национальной самобытности.
Что русские патриоты Сабашниковы считали необходимым издать для просвещения народа в первую очередь? Идеалы, которые считались в элите высшими и ценности – жизненно важными, отразились в издательской программе Сабашниковых: книги по тематике идеализма, рационализма, эмпиризма, позитивизма, по проблемам современной науки. На втором плане шла художественная зарубежная классика. Это не умаляет просветительских заслуг Сабашниковых и не говорит о том, что такие издания не нужны для просвещения общества. Большая часть христианской культуры – патристика, сочинения средневековых православных авторов, современных христианских мыслителей России и Запада – была недоступна читающей публике в России, но оставалась вне внимания русского книгоиздательства. Безрелигиозность вполне добропорядочных людей оборачивалась ограниченностью, нечувствием исторически насущного. Новообращенные атеисты не были способны осмыслить многовековую русскую православную цивилизацию, а значит, не понимали главного в судьбе России.
Сабашниковы не издавали произведения, которые отвечали духовным потребностям народа и могли послужить его подлинному просвещению, помогли бы преодолеть отчужденность от народа, живущего православной верой. Их издательская деятельность способствовала прогрессирующей идеологизации образованного общества, в котором утверждались материалистические либо абстрактно-идеалистические взгляды. Поток гуманистической литературы, не уравновешиваемый изданиями с традиционно русским, православным взглядом на мир, не способствовал росту исторического и национального самосознания общества. Критические обзоры выпускаемой литературы, за редким исключением, писались позитивистами, материалистами и сциентистами, которые внедряли в умы читателей предрассудки в качестве непреложных аксиом. Позиции антихристиански настроенных авторов в русской публицистике усиливались. Так, энциклопедия Брокгауза и Ефрона, которая была издана в идеалистическом и отчасти в христианском духе, при переиздании превратилась в «Новый энциклопедический словарь» с позитивистским уклоном под формой «объективной научности». Идейная всеядность (неразличение духов) и духовная анемия приводили к тому, что общественная активность многих авторитетных деятелей по степени дехристианизации «опережали» уровень их собственной усыхающей религиозности. Примером беспринципности является деятельность промышленника Морозова, который был не только меценатом, но и кредитором террористов. Руками людей, ещё полагающих себя христианами, творилось по существу антихристианское дело.
Динамичная российская действительность предлагала возможности изживания болезни сознания, но представители либеральной интеллигенции оставались верными своим догмам: «Вытесненные из политической борьбы, они уходят в будничную культурную работу. Это прекрасные статистики, строители шоссейных дорог, школ и больниц. Вся земская Россия создана ими. Ими, главным образом, держится общественная организация, запускаемая обленившейся, упадочной бюрократией. В гуще жизненной работы они понемногу выигрывают в почвенности, теряя в “идейности”. Однако остаются до конца, до войны 1914 г., в лице самых патриархальных и почтенных своих старцев, безбожниками и анархистами. Они не подчеркивают этого догмата, но он является главным членом их “Верую”» (Г.П. Федотов).
С середины XIX века творческая энергия большей части образованного общества и делового сословия увлекалась различного рода идеоманиями. Либералы разрабатывали «новое» мировоззрение, нигилисты доводили его до логического предела, а террористы реализовывали радикальные установки в жизни. Либералы уничижали традиции, радикалы отрицали их, а революционеры ниспровергали устои. Общество состояло из двух колонн разрушения: либералы сеяли «новые» революционные идеи, радикалы додумывали до крайних выводов и доделывали то, на что не решались либералы, которым только оставалось признавать и поддерживать левый радикализм. Реальные нужды страны и народа оставались вне внимания утопического общественного сознания. Как самокритично осознает думающий, совестливый русский интеллигент – герой романа А.И. Солженицына: «Вот так, веками, занятые только собой, мы держали народ в крепостном бесправии, не развивали ни духовно, ни культурно – и передали эту заботу революционерам».
В великих реформах Александра II либеральная общественность не задумываясь встала на защиту террора, захлестнувшего страну: «И оружием высказанная ненависть не утихала потом полстолетия. А между выстрелами теми и этими метался, припадал к земле, ронял очки, подымался, руки вздевал, уговаривал и был осмеян неудачливый русский либерализм. Однако заметим: он не был третеец, он не беспристрастен был, не равно отзывался он на выстрелы и окрики с той и другой стороны, он даже не был и либерализмом сам. Русское образованное общество, давно ничего не прощавшее власти, радовалось, аплодировало левым террористам и требовало безраздельной амнистии всем им. Чем далее в девяностые и девятисотые годы, тем гневнее направлялось красноречие интеллигенции против правительства, но казалось недопустимым увещать революционную молодежь, сбивавшую с ног лекторов и запрещавшую академические занятия. Как ускорение Кориолиса имеет строго обусловленное направление на всей Земле, и у всех речных потоков так отклоняет воду, что омываются и осыпаются всегда правые берега рек, а разлив идёт налево, – так и все формы демократического либерализма на Земле, сколько видно, ударяют всегда вправо, приглаживают всегда влево. Всегда левы их симпатии, налево способны переступать ноги, к леву клонятся головы слушать суждения, – но позорно им раздаться вправо или принять хотя бы слово справа… Труднее всего прочерчивать среднюю линию общественного развития: не помогает, как на краях, горло, кулак, бомба, решетка. Средняя линия требует самого большого самообладания, самого твердого мужества, самого расчетливого терпения, самого точного знания» (А.И. Солженицын).
К началу ХХ века в гуманитарном творчестве усиливаются процессы разложения, писатели из обличителей пороков превращаются в растлителей. И.А. Бунин так описывал процесс духовной деградации: «В конце девяностых годов ещё не пришел, но уже чувствовался “большой ветер из пустыни”. И был он уже тлетворен в России для той “новой” литературы, что как-то вдруг пришла на смену прежней… Но вот что чрезвычайно знаменательно для тех дней, когда уже близится “ветер из пустыни”: силы и способности почти всех новаторов были довольно низкого качества, порочны от природы, смешаны с пошлым, лживым, спекулятивным, с угодничеством улице, с бесстыдной жаждой успехов, скандалов… Это время было временем уже резкого упадка в литературе нравов, чести, совести, вкуса, ума, такта, меры… Розанов в то время очень кстати (с гордостью) заявил однажды: “Литература – мои штаны, что хочу, то в них и делаю…” Впоследствии Блок писал в своём дневнике: “Литературная среда смердит”… Богохульство, кощунство – одно из главных свойств революционных времен, началось ещё с самыми первыми дуновениями “ветра из пустыни”». Об экзальтированной атмосфере разложения свидетельствует популярная характеристика, которую дал своей родине один из публицистов: «Всероссийское трупное болото».
Творческая интеллигенция с энтузиазмом добивала остатки традиций и служила подготовке фаланг разрушителей. В результате всеобщего идейного ослепления та часть образованного общества и делового класса, которая могла бы стать костяком преобразований, оказалась на стороне ниспровергателей России. Не миновало это поветрие и традиционно консервативное сословие купечества.
Отрицание в либеральном обществе традиционной культуры и Православия, ориентация на чуждые идеологии сыграли роковую роль в судьбе России. Утопическая мечтательность без нравственной взыскательности и без чувства гражданского долга – не безобидная игра ума. Стихия пустого фантазирования подтачивает душевные скрепы, подталкивает нарушить моральные и духовные нормы. Некритическая восприимчивость к чужеродным идеям разлагает сознание. Всякое творчество вне ответственности перед Творцом способно пробудить гибельные стихии. Общественная активность, гражданская деятельность без религиозного чувства – готовности к грядущему небесному предстоянию – разрушительны для дома земного – отечества. Тотальное подчинение частным идеям самого прекрасного толка – болезнь духа. Заигрывание с идеологическими «измами» ведёт к последовательной деградации человека. Атеизм стерилизует совесть и лишает духовной ориентации. Это видно на примере атеизма Белинского, не ощутившего чудовищности своего призыва к уничтожению ста тысяч голов во имя торжества социализма в мире. Материализм приземляет жизненные интересы и идеалы. Рационализм выхолащивает душу, формализирует и сужает сознание, внедряет уверенность в возможности арифметического решения всех проблем. Дорого обошлась России эта самоуверенность рассудка! Формулы для будущих глобальных социальных экспериментов заготавливались на «письменном столе» русской публицистики и журналистики, где господствовал маниакальный тон, который Лесков назвал «клеветническим террором в либеральном вкусе». Яды, отравившие Россию, накапливались в прокуренных говорильнях русских мальчиков. Эмпиризм в свою очередь развязывал руки для бездумных экспериментов над живым и жизнью. Позитивизм же внедрял «мудрое» равнодушие к происходящему тем, кто был способен что-то понять.
Либералы и власть
Россия не укладывалась в прокрустово ложе западнической логики, что провоцировало либеральных апологетов арифметического ума «пообтесать» грандиозное историческое тело, привести неразумную массу в соответствие с современными требованиями. Европеизированное общество отрывалось от реальности и относилось к традиционной России всё более агрессивно. Либеральная интеллигенция сняла с себя ответственность за судьбу Отечества и превратилась в жестокосердного судию российской действительности. Ответственность возлагалась на власть, бойкот которой стал общественным кредо интеллигенции. В атмосфере всеобщей непримиримости происходит отток от власти талантливых и умных людей. Ожесточенное противостояние общественности и власти ведёт Россию к катастрофе.
Власть, не имеющая сил для формирования национальной стратегии, видела один способ оградить общество от разлагающих идей – отказ от преобразований. В слепом ретроградстве власть не понимала и тех, кто был готов творчески поддержать её усилия. Не были услышаны голоса А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, славянофилов, Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева. Разрыв между интеллигенцией и народом, с одной стороны, интеллигенцией и властью, с другой – усугублялся до пропасти. Идеологическая зашоренность лишала государственных мужей видения реальности, не позволяла действовать эффективно, но принуждала поддерживать искусственное и отжившее. Интеллигенция с подозрительностью относилась к инициативам власти, но оправдывала любые оппозиционные действия. В результате были упущены возможности уберечь Россию от гибельного пути. «И таких моментов, когда вот, кажется, доступно было умирить безумный раздор власти и общества, повести их к созидательному согласию, мигающими тепло-оранжевыми фонариками, немало расставлено на русском пути за столетие. Но для того надо: себя – придержать, о другом – подумать с доверием. Власти: а может, общество отчасти и доброго хочет? Может, я понимаю в своей стране не все? Обществу: а может, власть не вовсе дурна? Привычная народу, устойная в действиях, вознесенная над партиями, – быть может, она своей стране не враг, а в чем-то благодеяние? Нет, уж так заведено, что в государственной жизни ещё резче, чем в частной, добровольные уступки и самоограничение высмеяны как глупость и простота» (А.И. Солженицын).
«Передовая» часть либеральной интеллигенции ушла в оппозицию реформам Александра II. И власть мало использовала помощь общества, в частности, ограничив развитие земства. Общеинтеллигентское сознание воспалялось, что способствовало зарождению экстремистских, насильственных прожектов. Позитивистский индифферентизм образованного слоя усугублял атмосферу всеобщей безответственности. Всё это создавало общественный климат, в котором вызрели идеи пресечения реформ цареубийством. «Чтобы остановить реформы, лишавшие её перспектив “крутой ломки” всей русской государственности, революционная демократия решилась на убийство Александра II. Император погиб в день, когда подписал проект закона о привлечении земских деятелей к руководству общегосударственными делами. Прямым последствием убийства Александра II было поражение славянофилов, как общественно-политического течения. Была сломлена “пружина” реформаторской динамики» (Ю.П. Жедилягин).
При Александре III раскол между обществом и властью углублялся, ибо консервативный славянофильствующий курс либеральная интеллигенция поддержать не могла. Потеря чувства реальности и общественная безответственность интеллигенции усугублялись от десятилетия к десятилетию. В начале ХХ столетия «принцип “долой самодержавие” как будто давал объединение со всеми, кто только хотел. Русский радикализм (он продолжал называть себя либерализмом) оказывался солидарен со всеми революционными направлениями, а поэтому не мог осуждать террор, даже порицал тех, кто порицает террор. Русский радикализм принял принцип, что если насилие направлено против врага – оно оправдывается. Оправдывались все политические волнения, стачки и погромы поместий. Чтобы смести самодержавную власть, была пригодна, наконец, хотя бы и революция – во всяком случае, меньшее зло, чем самодержавие» (А.И. Солженицын).
К началу ХХ века в идеологизированной атмосфере только сильные, независимые личности сохраняли трезвые головы. А.И. Солженицын в романе «Красное колесо» описывает виднейшего и первейшего земца Дмитрия Николаевича Шипова, который в русской традиции не отстаивал интересы классов и групп, а стремился к поискам общей правды. «Миропонимание и общественная программа формулировались Д.Н. Шиповым так. Смысл нашей жизни – творить не свою волю, но уяснить себе смысл миродержавного начала. При этом хотя внутреннее развитие личности по своей важности и первенствует перед общественным развитием (не может быть подлинного прогресса, пока не переменятся строй чувств и мыслей большинства), но усовершенствование форм социальной жизни – тоже необходимое условие. Эти два развития не нужно противопоставлять, и христианин не имеет права быть равнодушен к укладу общественной жизни. Рационализм же повышенно внимателен к материальным потребностям человека и пренебрегает его духовной сущностью. Только так и могло возникнуть учение, утверждающее, что всякий общественный уклад есть плод естественно-исторического процесса, а стало быть, не зависит от злой или доброй воли отдельных людей, от заблуждений и ошибок целых поколений; что главные стимулы общественной и частной жизни – интересы. Из отстаивания прежде всего интересов людей и групп населения вытекает вся современная западная парламентская система, с её политическими партиями, их постоянной борьбой, погонею за большинством, и конституциями как регламентами этой борьбы. Вся эта система, где правовая идея поставлена выше этической, – за пределами христианства и христианской культуры. А лозунги народовластия, народоправства наиболее мутят людской покой, возбуждают втягиваться в борьбу и отстаивать свои права, иногда и совсем забывая о духовной стороне жизни. С другой стороны, неверно приписывать христианству взгляд, что всякая власть – божественного происхождения и надо покорно принимать ту, что есть. Государственная власть – земного происхождения и так же несёт на себе отпечаток людских воль, ошибок и недостатков… Власть – это безысходное заклятье, она не может освободиться от порока полностью, но лишь более или менее. Поэтому христианин должен быть деятелен в своих усилиях улучшить власть и улучшить государство. Но борьбой интересов и классов не осуществить общего блага. И права, и свободу – можно обеспечить только моральной солидарностью всех. Усильная борьба за политические права, считает Шипов, чужда духу русского народа – и надо избегнуть его вовлечения в азарт политической борьбы. Русские искони думали не о борьбе с властью, но о совокупной с ней деятельности для устроения жизни по-божески. Так же думали и цари древней Руси, не отделявшие себя от народа. “Самодержавие” – это значит: независимость от других государей, а вовсе не произвол. Прежние государи искали творить не свою волю, но выражать соборную совесть народа
– и ещё не утеряно восстановить дух того строя… Для такого государства, где и правящие и подчиненные должны, прежде всего, преследовать не интересы, а стремиться к правде отношений, Шипов находит наилучшей формой правления именно монархию – потому что наследственный монарх стоит вне столкновений всяких групповых интересов. Но выше своей власти он должен чувствовать водворенье правды Божьей на земле, своё правление понимать как служение народу и постоянно согласовывать свои решения с соборной совестью народа в виде народного представительства. И такой строй – выше конституционного, ибо предполагает не борьбу между Государем и обществом, не драку между партиями, но согласные поиски добра. Именно послеалександровское земство, уже несущее в себе нравственную идею, может и должно возродить в новой форме Земские соборы, установить государственно-земский строй. И всего этого достичь в духе терпеливого убеждения и взаимной любви… Шипов указывал большинству, что класть в основу реформы идею прав и гарантий значит вытравлять и выветривать из народного сознания ещё сохраненную в нём религиозно-нравственную идею» (А.И. Солженицын).
Это было явление коренного русского консерватизма, основанного на православном мировоззрении: «Если желать успеха делу, нельзя не считаться со взглядами лиц, к которым обращаешься. Необходимость какой-либо реформы должна быть предварительно не только широко осознана обществом, но и государственное руководство должно быть с нею примирено» (Д.Н. Шипов). Он стремился создать новую социальную опору традиционной российской государственности: «поднять личность русского крестьянина, уравнять его в правах с лицами других сословий, оградить правильной формою суда, отменить телесные наказания, расширить просвещение. И построить вне сословий всё земское представительство» (Д.Н. Шипов). При этом Шипов ясно представлял себе действительное состояние власти и общества, но видел пути совместной деятельности во благо страны: «Этому обществу – лишённому нравственной силы и способности к дружной работе, власть и не может доверять. В обществе преобладает отрицательное отношение и к вере отцов, и к истории, быту и пониманиям своего народа. Либеральное направление так же ложно и крайне, как и правительственное. А всё же можно устранять и устранить недоверие между властью и обществом, и достичь их живого взаимодействия. Власти должны перестать считать, что самодеятельность общества подрывает самодержавие. Общество уже сегодня должно самостоятельно заведовать местными потребностями и не быть под административным произволом и личным усмотрением. Проекты государственных учреждений должны быть доступны общественной критике до утверждения их Государем».
Феномен Шипова актуален для сегодняшней России, которая вновь на переломе. «За четверть века своей общественной деятельности он как будто ни на градус не уклонился от стрелки нравственной идеи, вышедшей из центра религиозного сознания, кажется, ни на одном шаге не был озлоблен, или разгорячился бы борьбой, сводил бы с противниками счеты, или был бы лукав, или корыстен, или славолюбив, – нет! Он своим спокойным, обстоятельным умом прилагал нравственную идею к русской истории, и не где-то на задворках, но на самых главных местах, и в самые опасные переломные месяцы для России вызывался к Государю для советов, для получения министерских постов, а в июне 1906 – и поста премьер-министра. И все его советы оказались не принятыми. И – ото всех постов он отказался, смечая соотношение сил и настроений, – странный удел столь многих русских деятелей: по разным причинам, почти всегда – отказ… Урок Шипова напряженно дрожит вопросом: вообще осуществимо ли последовательно-нравственное действие в истории? Или – какова же должна быть нравственная зрелость общества для такой деятельности? Вот и 70 лет спустя и в самых незапретных странах, веками живущих развитою гибкой политической жизнью, – много ли соглашений и компромиссов достигается не из равновесия жадных интересов и сил, а – из высшего понимания, из дружелюбной уступчивости сделать друг другу добро? Почти ноль» (А.И. Солженицын). Нравственная твердость не подпиралась у Шипова политической волей. Поэтому он не поддерживал энергичные действия Столыпина, подозревая его в умалении нравственного начала в государственной жизни, в стремлении к абсолютизму, в ограниченности политического кругозора, в неглубокости общего миросозерцания, излишней самоуверенности и властности. «А Столыпину, вероятно, виделось, что Шипов, при святости верхового кругозора, лишен хватки, поворотливости, быстрой энергии, славно разговаривает, а сделать в крутую минуту не способен ничего, и Россию спасать – ему не по силам» (А.И. Солженицын). Два типа нравственно здоровых русских политиков не смогли услышать и поддержать друг друга в общем деле спасения России.
Мудрый голос Шипова был заглушен радикалами всех мастей, ибо в общественно-политической деятельности представители деятельно-умеренного крыла вытеснялись на периферию идеологизированным большинством: «Не-земцы были в курсе всех западных социалистических учений, течений, решений, все читали, знали, обо всем судили, могли очень уверенно критиковать и сравнивать Россию, и одного только не имели – практического государственного опыта, как делать и строить, если завтра вдруг придется самим (да не очень к тому и тянулись). Напротив, земцы были единственным в России слоем, кроме царских бюрократов, кто уже имел долгий, хотя и местный, опыт государственного управления, и склонность к тому имел, и землю знал и чувствовал, и коренное население России. Однако по бойкости и эрудированности не-земцы брали верх, больше влияли и больше направляли» (А.И. Солженицын).
Почти вся интеллигенция числила себя в «Союзе освобождения» либо всячески солидаризировалась с утопией «освобождения» – освобождения от реальной жизни, от традиционной культуры, от вековечных духовных ценностей. «Освобожденцы – то есть большинство российской интеллигенции, весь либеральный цвет её, и не хотели никакого примирения с властью, и тактика их была: нигде не пропускать ни одного удобного случая обострить конфликт. Они и не пытались искать, что из русской действительности и её учреждений может, преобразовавшись, войти в будущее: всё должно было обрушиться и начисто замениться… Императорское правительство ещё существовало, но в глазах освобожденцев как бы уже и не существовало. Чего они никак не представляли, это – чтоб между нынешней властью и населением кроме жёстких противоречий была ещё и жестокая связь гребцов одного корабля: идти ко дну – так всем. Чего Освободительное Движение вообразить не могло и не желало – это достичь своих целей плавной эволюцией» (А.И. Солженицын).
После Манифеста 6 августа 1905 года о создании законосовещательной Думы председатель правительства С.Ю. Витте пригласил кадетов в формируемый кабинет министров. «Едва создалась партия – и сразу открылся ей путь – идти в правительство и ответственно искать, вдумчиво устраивать новые формы государственной жизни. Казалось бы – о чем ещё мечтать? Но нервные голосистые кадеты на этом первом шаге выявили: они не были готовы от речей по развалу власти перейти к самой работе власти. Насколько почетней и независимей быть критикующей оппозицией!.. Их делегация к Витте во главе с молодым идеологом и оратором Кокошкиным сразу приняла вызывающий тон, требовала не устройства делового правительства, но – Учредительного собрания, но – амнистии террористам, не оставляя нынешней власти ни авторитета, ни места вообще. Да иначе – что бы сказали слева? пойдя на малейшее сотрудничество с Витте – чем бы тогда кадеты отличались от правых?» (А.И. Солженицын).
Вынужденная запоздалая уступка власти в виде создания законосовещательной Думы не принесла общественного успокоения, ибо революционные настроения радикализировались день ото дня. «Опубликование закона 6 августа никого не успокоило, а всеми рассматривалось как широчайшая дверь в спальню госпожи конституции. Напротив того, с августа революция начала всё более и более лезть во все щели, а неудовлетворение в течение десятков лет насущных моральных и материальных народных нужд и позорнейшая война обратили все эти щели в прорывы» (С.Ю. Витте). Через два месяца события вынудили власть пойти на отказ от самодержавного правления, создание российского парламента и дарование «населению незыблемых основ гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов».
После Манифеста 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка» Витте обратился к одному из лидеров кадетов И.В. Гессену (который пытался легализовать «партию народной свободы»): «Я ему сказал, что вообще к взглядам этой партии отношусь симпатично и многие воззрения её разделяю и что, поэтому, я готов её поддерживать, но при одном непременном условии, чтобы она отрезала революционный хвост, то есть резко и открыто стала против партии революционеров, орудовавших бомбами и браунингами. На это мне Гессен ответил, что они этого сделать не могут и что мое предложение равносильно тому, если бы они нам предложили отказаться от нашей физической силы, то есть войска, во всех его видах». Российские либералы наперегонки равнялись на крайне левый фланг – жерло идейной мании. В глазах общества кровавые революционеры были – наша физическая сила, то есть войско освобождения.
В кадетскую партию входила наиболее активная часть интеллигенции, которая выявляла степень идеологизированности всего общества. «Эта партия объединила лучшие умственные силы страны, цвет интеллигенции. Но политическая борьба для них являлась как бы самодовлеющей целью. Они не хотели ждать, пока жизнь будет устрояться, постепенно обсуждаемая в её отраслях специалистами со знанием и подготовкой, – но как можно быстрей и как можно жарче вовлекать в политическую борьбу весь народ, хотя б и непросвещенный. Они торопили всеобщие выборы – в обстановке как можно более возбужденной. Они не хотели понять, что народным массам чуждо понимание правового начала, проблем государственной жизни, да и самого государства, и, тем не менее, спешили возбудить и усилить в народе недовольство, пробудить в нём эгоистические интересы, разжечь грубые инстинкты, пренебрегая народным религиозным сознанием. К религии кадеты были если не враждебны, то равнодушны. Их безрелигиозность и мешала им понять сущность народного духа. Из-за нее-то, искренно стремясь к улучшению жизни народных масс, они разлагали народную душу, способствуя проявлению злобы и ненависти – сперва к имущественным классам, потом и к самой интеллигенции» (Д.Н. Шипов).
В 1906 году император и его правительство предприняли несколько попыток найти общий язык с либеральными партиями и привлечь интеллигенцию к служению России. Через дворцового коменданта генерала Трепова Николай II обратился к руководству кадетской партии с предложением создать коалиционное правительство. Профессор римского права С.А. Муромцев посчитал ниже своего партийного достоинства даже встречаться с прислужником самодержавия. Лидер кадетов П.Н. Милюков по партийным соображениям отверг все реальные возможности для сотрудничества. (Самоотверженно исполняя порученную миссию, Трепов после провала переговоров умер от сердечного приступа.)
В последующем попытки Столыпина привлечь представителей умеренной оппозиции А.И. Гучкова, Д.Н. Шипова, Н.Н. Львова к работе в правительстве натолкнулись на идейную непримиримость кадетов и октябристов. Столыпин звал лидеров русской интеллигенции для совместной работы над реформами, дающими исторические перспективы России. Ради создания коалиционного думского правительства он был готов уйти со своих постов. Но «человек дела – воспринималось синонимом тирана. Никто из приглашаемых общественных деятелей не рискнул войти в кабинет Столыпина, кто и сочувствуя ему» (А.И. Солженицын). Летом 1907 года «Столыпин встречался с небезнадежными (их в шутку звали «черносотенными») кадетами – Маклаковым, Челноковым, Струве, Булгаковым, ища сговориться и составить с ними такое правительство – на ребре, не опровергаемое ни слева, ни справа. Встречались тайно и от тех и от других. Столыпину эти кадеты доверяли: в личных встречах он поражал прямизной, открытостью, спокойным верным взглядом, определённостью выражений, и глаза блестели умом и твердостью. Но даже открыться однопартийцам они боялись, где ж тогда составлять правительство!.. Меньше чем за два года это была третья попытка, когда российское правительство приглашало общественность разделить власть, – но та отказывалась, чтоб не испачкать репутации. Роль гневной оппозиции оставалась более легкой. Как то мечталось русским радикалам: всё снести до основания (не пострадавши ни петербургскими квартирами, ни прислугами) – а тогда уже строить совсем новую, совсем свободную, небывалую, удивительную российскую власть! Они сами не понимали, насколько сами нуждаются в монархии. Они не умели управлять и не учились, а детски радовались взрывам и пожарам» (А.И. Солженицын).
Самоубийственные мании господствовали в обществе, превращая в маргиналов немногих ответственных и здравомыслящих деятелей. В лице Столыпина русский гений пытался отмежеваться от крайностей. Он знал цену правым радикалам: «Маньяки безусловной и безграничной деспотичности, которую они ложно определяют термином “самодержавие”». И мог полновесно ответить левым экстремистам: «Я не буду отвечать на обвинение, что мы живем в какой-то восточной деспотии. Строй, в котором мы живем, – это строй представительный, дарованный самодержавным царём и, следовательно, обязательный для всех… Для всех теперь стало очевидным, что разрушительное движение, созданное крайне левыми партиями, превратилось в открытое разбойничество и выдвинуло вперёд все противообщественные, преступные элементы… Дерзости врагов общества возможно положить конец лишь последовательным применением всех законных мер защиты».
Но его суждения были гласом вопиющего в пустыне и не воспринимались распалённым сознанием российского общества. «Кадеты не могли не видеть – но и не хотели видеть! но и запретили себе видеть! – что Столыпин и предлагал либеральную освободительную программу, разворачивал обновленный строй, давал верный тон соотношению исполнительной и законодательной власти, давал тон самой Думе. Но это приходило – от власти, значит – не из тех рук, и слишком прямо вело к укреплению жизни, когда надо было сперва её развалить» (А.И. Солженицын). Идейная одержимость принуждала интеллигенцию в ответ на спасительные инициативы выдвигать неприемлемые требования радикальной смены государственного строя, законной власти предлагалось отказаться от власти. Столыпин предпринимал разнообразные попытки единения политических сил, рассчитывая на здравый смысл, который мог бы подсказать путь к самосохранению. Отвечая Шипову и Львову, Столыпин писал: «Душевно жаль, что вы отказываете мне в вашем ценном и столь желательном, для блага общего, сотрудничестве… Я нахожу, что нужно реальное дело, реальные реформы… В общих чертах, в программе, которая и по мне должна быть обнародована, мы мало расходимся… Кабинет весь целиком должен быть сплочен единством политических взглядов, и дело, мне кажется, не в числе портфелей, а в подходящих лицах, объединенных желанием вывести Россию из кризиса». Но общественность единодушно усугубляла кризис.
Вот что писал другой царский министр, Извольский: «Отказываясь от сотрудничества со Столыпиным, такие умеренные либералы, как князь Львов, граф Гейден и другие, совершили ещё раз грубую ошибку и показали тем самым, насколько политические партии России были в это время ещё незрелы, находясь во власти политических страстей». Духовно инфантильные отцы русской демократии не желали видеть губительные последствия отказа от созидательного сотрудничества и национального единения, ибо руководствовались партийными (партикулярными – частными) пристрастиями. Для них было важно не общественное благо, а то, чью сторону держишь и на чью мельницу льёшь. Не могли они заниматься реальным делом, реальными реформами на благо общества и России, ибо служили, на их взгляд, более высоким идеалам. Ради сохранения идеологического целомудрия вожди освободительного движения готовы были пожертвовать судьбами людей и будущностью России. В атмосфере всеобщей травли Столыпина для них было невозможно оказаться на стороне реакционного самодержавия и его продажного правительства. «Как две обезумевших лошади в общей упряжи, но лишённые управления, одна дергая направо, другая налево, чураясь и сатанея друг от друга и от телеги, непременно разнесут её, перевернут, свалят с откоса и себя погубят, – так российская власть и российское общество, с тех пор как меж ними поселилось и всё разрасталось роковое недоверие, озлобление, ненависть, – разгоняли и несли Россию в бездну. И перехватить их, остановить – казалось, не было удальца» (А.И. Солженицын).
Наконец во власть «пришёл человек цельный! Неуклончивый! Уверенный в своей правоте! И уверенный, что в России ещё достаточно здравомыслящих прислушаться! А главное – умеющий не болтать, а делать, растрясти застой. Если замысел – то в дело! Если силы приложил – то сдвинул! Видел – будущее, нёс – новое. И что ж, узнали… его тогда? Именно его смелость, верность России, именно его разум – больше всего и возмутили общество! И приклеили ему “столыпинский галстук”, ничего другого, кроме петли, в его деятельности не увидели» (А.И. Солженицын). Духовно больное общество выталкивало всех, кто сохранял независимость и принципиальность, цельные люди оказывались в изоляции и не могли влиять на судьбы страны. У тех же, кто оставался в гуще событий, болезнь прогрессировала: расшатывалась нравственность, тускнело сознание. Мир в их глазах раскалывался на «своих» и «чужих». По отношению к себе подобным они сохраняли остатки порядочности, в отношениях же с идейными противниками (с представителями власти, например) отменялись нравственные критерии. Добропорядочность в кругу семьи и друзей не мешала им проявлять беспринципность и жестокость на поприще общественной деятельности. Задолго до изречения «гения революции» о партийности всякой истины идейный партикуляризм пронизывал общественную деятельность либеральной интеллигенции. Форма этой болезни производила впечатление цветущего нравственного здоровья и потому не вызывала защитной тревоги. Что, казалось бы, можно вменить таким патриотам, как Сабашниковы, Морозов, Милюков или Гучков? Но на решающем этапе истории глубоко запрятанная атеистическая безответственность и аморфность совести, материалистическая приземленность, рационалистическая узость сознания, эмпирическая конъюнктурность и позитивистское равнодушие вынудили русскую интеллигенцию «проагукать Россию в пасть большевикам» (В.В. Шульгин).
Таким образом, виновны в разрушении России не только маньяки социальных потрясений, но всё образованное общество, поражённое разнообразными формами идеомании. Интеллигенция, с одной стороны, сыграла роль «колбы», в которой выращивались идейные бациллы, с другой – оказалась преступно легкомысленным «врачевателем», который с энтузиазмом заражал народ смертельными ядами. Интеллигенция формировала общественное мнение, навязывала его власти и народным массам, раскрепощая иррациональные стихии. Выплеснувшийся в феврале – марте 1917 года и затопивший Россию в ноябре хаос толпы прорвался не вдруг, он готовился разнузданием низменных страстей десятилетиями, ибо интеллигенция десятилетиями бездумно расшатывала государственные и общественные скрепы, сдерживающие стихию масс.
Глубокую характеристику этому процессу даёт С.Л. Франк: «Народ в смысле низших классов или вообще толщи населения никогда не может быть непосредственным виновником политических неудач и гибельного исхода политического движения, по той простой причине, что ни при каком общественном порядке, ни при каких общественных условиях народ в этом смысле не является инициатором и творцом политической жизни. Народ есть всегда, даже в самом демократическом государстве, исполнитель, орудие в руках какого-либо направляющего и вдохновляющего меньшинства… В народных массах в силу исторических причин накопился, конечно, значительный запас анархических, противогосударственных и социально-разрушительных страстей и инстинктов, но в начале революции, как и всегда, в тех же массах были живы и большие силы патриотического, консервативного, духовно-здорового, национально-объединяющего направления. Весь ход так называемой революции состоял в постепенном отмирании, распылении, ухождении в какую-то политически-бездейственную глубь народной души сил этого последнего порядка. Процесс этого постепенного вытеснения добра злом, света – тьмой в народной душе совершался под планомерным и упорным воздействием руководящей революционной интеллигенции. При всем избытке взрывчатого материала, накопившегося в народе, понадобилась полугодовая упорная, до исступления энергичная работа разнуздывания анархических инстинктов, чтобы народ окончательно потерял совесть и здравый государственный смысл и целиком отдался во власть чистокровных, ничем уже не стесняющихся демагогов. Вытесненные этими демагогами слабонервные и слабоумные интеллигенты-социалисты должны, прежде чем обвинять народ в своей неудаче, вспомнить всю свою деятельность, направленную на разрушение государственной и гражданской дисциплины народа, на затаптывание в грязь самой патриотической идеи, на разнуздывание, под именем рабочего и аграрного движения, корыстолюбивых инстинктов и классовой ненависти в народных массах, – должны вспомнить вообще весь бедлам безответственных фраз и лозунгов, который предшествовал послеоктябрьскому бедламу действий и нашёл в нём своё последовательно-прямолинейное воплощение… Нас погубили не просто низкие, земные, эгоистические страсти народных масс, ибо эти страсти присущи при всяких условиях большинству людей и всё же сдерживаются противодействием сил религиозного, морального и культурно-общественного порядка; нас погубило именно разнуздание этих страстей через прививку идейного яда социализма, искусственное накаление их до степени фантастической исступленности и одержимости и искусственная морально-правовая атмосфера, дававшая им свободу и безнаказанность. Неприкрытое, голое зло грубых вожделений никогда не может стать могущественной исторической силой; такой силой оно становится, лишь когда начинает соблазнять людей лживым обличием добра и бескорыстной идеи». Интеллигенция долго сеяла
в России ветер и удивилась, когда грянула буря!
Немощи власти
В течение XIX века власть в России имела несколько возможностей для реформ, которые создали бы преграду духовной болезни. Но отчужденное от национальной культуры и православного миросозерцания правящее сословие не было способно ответить на роковые вызовы эпохи. Церковь со времен Петра I не имела духовных сил и авторитета для благотворного влияния на власть.
Идеалистические увлечения и расплывчатый мистицизм Александра I ослабляли государственную волю императора. Легкая дымка дней Александровых прекрасного начала (замыслы по освобождению крестьян и о конституционной монархии) почти не оставила следа в истории России. Длительный период Александр I находился под влиянием различных западных авторитетов – от Чарторыского до Меттерниха: «Александра I можно назвать русским интеллигентом на троне. Фигура сложная, раздвоенная, совмещающая противоположности, духовно взволнованная и ищущая. Александр I был связан с масонством и так же, как и масоны, искал истинного и универсального христианства. Он… молился с квакерами, сочувствовал мистицизму интерконфессионального типа. Глубокой православной основы у него не было» (Н.А. Бердяев). В русском православном государстве императоры уже столетие воспитывались вне национальных религиозных традиций. В конце царствования Александр I отдает власть Аракчееву, тоже далекому от русских традиций. «В реакции он остался таким же оторванным от национальной и религиозной жизни народа, каким был во дни свободолюбивых иллюзий» (Г.П. Федотов).
Монархия не смогла опереться на здоровую часть общества. Правящее сословие не осознало, что живёт на восходе золотого века российской культуры. О духовном уровне государственных «защитников» Православия говорит такой факт: обер-прокурор Святейшего синода князь А.Н. Голицын впервые прочел Новый Завет после назначения в должность; пройдя от увлечения вольтерьянством до мистики пиетизма, он так и не понял Православия. Элита того времени не знала своего великого современника – Серафима Саровского, к которому стекалась простонародная Россия. Православие устояло вопреки колебаниям и антицерковным действиям власти. Символично сказание о том, что Александр I к концу царствования преодолел увлечение ложным мистицизмом, отказался от мирской власти и стал православным странником. Вне зависимости от степени достоверности это представление свидетельствует о духовной традиции, в которой даже для царя забота о спасении собственной души важнее спасения страны. Не чувствуя себя вправе и в силах действовать как государь, он уходит в духовное странствие.
Николай I пытался сохранить самобытность России средствами односторонними и ретроградными. Попытка обрести формулу национальной идентичности – «Православие. Самодержавие. Народность» графом Уваровым – большое достижение в постановке проблемы. Эта чеканная формулировка ориентировала на духовную конституцию нации. Но политическая реализация плодотворной установки искажалась правящим слоем и культурной элитой, оторванной от национальных корней: в осмысление роли Православия вносились чуждые, прозападнические влияния, Церковь на протестантский манер была подчинена государственному чиновнику, самодержавие бюрократизировалось, народность сводилась к стилизованности. «Православие в виде отмеренного компромисса между католичеством и протестантством, в полном неведении мистической традиции восточного христианства; самодержавие понято как европейский абсолютизм, народность как этнография… Русская монархия изменяет Западу не потому, что возвращается к Руси, а потому, что не верит больше в своё призвание. Отныне и до конца, на целое столетие, её история есть сплошная реакция, прерываемая несколькими годами половинчатых, неискренних реформ. Смысл этой реакции – не плодотворный возврат к стихиям народной жизни, а топтание на месте, торможение, “замораживание” России, по слову Победоносцева. Целое столетие безверия, уныния, страха: предчувствия гибели» (Г.П. Федотов).
Император стремился защититься от западного разложения закрепощением общества. Так в общественном сознании оформилась трагическая, ложная дилемма: либо западный индивидуализм, либо российский деспотизм. Николай I считал, что власть может опираться на тех, кому она выгодна, кто способен поддерживать её из эгоистических побуждений. Относясь с недоверием к дворянам, считая крепостное право недостойным, он опирался на дворян и крепостное право. Император хотел противопоставить дворянству независимое чиновничество и способствовал созданию мощного слоя чиновничьей бюрократии. Дворянству и чиновничеству в свою очередь попытки освобождения других слоёв общества казались опасными, поэтому и власть видела в этом опасность, всячески пресекала раскрепощение общества. Так борьба против влияния западного индивидуализма и революционности обернулась подавлением личности.
Попытки обращения Николая I к русской традиции оказались стилизованными по содержанию и бюрократизированными по форме. В официальной церковной и государственной традиции сохранились остатки ретроградного иосифлянского влияния, духовная традиция Нила Сорского была вытеснена в глубь народного благочестия и за пределы общественной жизни. До эпохи Николая I дошли секуляризированные отблески концепции Иосифа Волоцкого о неограниченном самодержавии и государственном Православии. На эту обветшалую и псевдорусскую идейную традицию и пытался опереться император. Глубокие выводы содержатся в воспоминаниях А.Ф. Тютчевой о Николае I и его времени: «Никто лучше как он не был создан для роли самодержца. Он обладал для того и наружностью, и необходимыми нравственными свойствами. Его внушительная и величественная красота, величавая осанка, строгая правильность олимпийского профиля, властный взгляд – все, кончая его улыбкой снисходящего Юпитера, всё дышало в нём земным божеством, всемогущим повелителем, всё отражало его незыблемое убеждение в своём призвании. Никогда этот человек не испытал тени сомнения в своей власти или в законности её. Он верил в неё со слепой верою фанатика, а ту безусловную пассивную покорность, которой требовал он от своего народа, он первый сам проявлял по отношению к идеалу, который считал себя призванным воплотить в своей личности, идеалу избранника Божьей власти, носителем которой он себя считал на земле. Его самодержавие милостью Божией было для него догматом и предметом поклонения, и он с глубоким убеждением и верою совмещал в своём лице роль кумира и великого жреца этой религии – сохранить этот догмат во всей чистоте на святой Руси, а вне её защищать его от посягательств рационализма и либеральных стремлений века – такова была священная миссия, к которой он считал себя призванным самим Богом и ради которой он был готов ежечасно принести себя в жертву».
Мировоззрение русских царей более века формировалось вне национальной духовной традиции. Поэтому попытки реставрации традиции сводились к мании обскурантизма, борьбе с современными веяниями – как вредоносными, так и созидательными. «Как у всякого фанатика, умственный кругозор его был поразительно ограничен его нравственными убеждениями. Он не хотел и даже не мог допустить ничего, что стояло бы вне особого строя понятий, из которых он создал себе культ. Повсюду вокруг него в Европе под веянием новых идей зарождался новый мир, но этот мир индивидуальной свободы и свободного индивидуализма представлялся ему во всех своих проявлениях лишь преступной и чудовищной ересью, которую он был призван побороть, подавить, искоренить во что бы то ни стало, и он преследовал её не только без угрызения совести, но со спокойным и пламенным сознанием исполненного долга. Глубоко искренний в своих убеждениях, часто героический и великий в своей преданности тому делу, в котором он видел миссию, возложенную на него провидением, можно сказать, что Николай I был Дон-Кихотом самодержавия, Дон-Кихотом страшным и зловредным, потому что обладал всемогуществом, позволявшим ему подчинять всё своей фантастической и устарелой теории и попирать ногами самые законные стремления и права своего века» (А.Ф. Тютчева). Высшая задача верховной власти в том, чтобы подготовить страну своевременными реформами к историческим вызовам – законным стремлениям и правам своего века. Бессмысленно игнорировать либо искоренять доминанту эпохи – раскрепощение индивидуализма в христианской цивилизации. Русская православная цивилизация несёт в себе духовные потенции, которые позволяют крайностям индивидуализма противопоставить возрастание свободной творческой личности.
В традиции нестяжательства разрабатывались идеалы духовного формирования личности. Разгром в XVI веке зачатков православной персоналистической традиции лишил русское общество духовных средств воспитания религиозно ответственной, духовно самосознающей, творчески свободной личности в эпоху торжества западного индивидуализма. Исторический вызов индивидуалистической эпохи воспринимался русской верховной властью не как задача, которая может быть разрешена русским православным сознанием, а как чудовищная преступная ересь, все признаки которой необходимо выжигать средствами государственного насилия. «Вот почему этот человек, соединявший с душою великодушной и рыцарский характер редкостного благородства и честности, сердце горячее и нежное и ум возвышенный и просвещённый, хотя и лишённый широты, вот почему этот человек мог быть для России в течение своего 30-летнего царствования тираном и деспотом, систематически душившим в управляемой им стране всякое проявление инициативы и жизни. угнетёние, которое он оказывал, не было угнетёнием произвола, каприза, страсти; это был самый худший вид угнетёния – угнетёние систематическое, обдуманное, самодовлеющее, убежденное в том, что оно может и должно распространяться не только на внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, его совесть и что оно имеет право из великой нации сделать автомат, механизм которого находился бы в руках владыки. Отсюда в исходе его царствования всеобщее оцепенение умов, глубокая деморализация всех разрядов чиновничества, безвыходная инертность народа в целом» (А.Ф. Тютчева).
Дворянство за XVIII дворянский век добилось освобождения от обязательной государственной службы, погрязло в роскоши и лени, денационализировалось, поэтому не могло быть эффективной опорой самодержавия. Николай I выстраивает новую – чиновничью государственную машину. Но попытка создать всевластную эффективную бюрократию на русской почве не могла не провалиться. «Вот что сделал этот человек, который был глубоко и религиозно убежден в том, что всю свою жизнь он посвящает благу родины, который проводил за работой восемнадцать часов в сутки из двадцати четырех, трудился до поздней ночи, вставал на заре, спал на твердом ложе, ел с величайшим воздержанием, ничем не жертвовал ради удовольствия и всем ради долга и принимал на себя больше труда и забот, чем последний поденщик из его подданных. Он чистосердечно и искренно верил, что в состоянии всё видеть своими глазами, всё слышать своими ушами, всё регламентировать по своему разумению, всё преобразовать своею волею. В результате он лишь нагромоздил вокруг своей бесконтрольной власти груду колоссальных злоупотреблений, тем более пагубных, что извне они прикрывались официальной законностью и что ни общественное мнение, ни частная инициатива не имели ни права на них указывать, ни возможности с ними бороться» (А.Ф. Тютчева).
Подобную характеристику Николаю I даёт один из историков: «Он считал себя ответственным за все, что делалось в государстве, хотел всё знать и всем руководить – знать всякую ссору предводителя с губернатором и руководить постройкой всякой караульни в уездном городе – и истощался в бесплодных усилиях объять необъятное и привести жизнь в симметрический порядок. Многообразие, хаотичность жизни, мешавшие неуклонному проведению его доктрины, приводили его в отчаяние, все его усилия были направлены на то, чтобы изыскать средства, при помощи которых можно было бы обуздать это буйное непослушание вещей и людей ради полного торжества принципов, оттого он стремился прикрепить всякого подданного к его месту, оттого требует от начальников и подчиненных слепого послушания». Идейная мания поразила и верховную власть в России, поэтому её утопические проекты омертвляли живую жизнь общества.
В итоге страна упустила историческое время для необходимых реформ. Попытки законсервировать все сферы жизни в конечном итоге ослабили государственный режим. Во власти господствует серость, и стремительно растёт коррупция чиновничества – широко известные слепая покорность и далеко не безупречность в нравственном отношении. Ветхость внешне величественного государственного строя немедленно проявилась, когда России пришлось столкнуться с европейскими странами в Крымской войне. «Когда наступил час испытания, вся блестящая фантасмагория этого величественного царствования рассеялась как дым. В самом начале Восточной войны армия – эта армия, столь хорошо дисциплинированная с внешней стороны, – оказалась без хорошего вооружения, без амуниции, разграбленная лихоимством и взяточничеством начальников, возглавляемая генералами без инициативы и без знаний; оставалось только мужество и преданность её солдат, которые сумели умирать, не отступая там, где не могли победить вследствие недостатка средств обороны и наступления. Финансы оказались истощенными, пути сообщения через огромную империю непроездными, и при проведении каждого нового мероприятия власть наталкивалась на трудности, создаваемые злоупотреблениями и хищениями. Укрепления совершенно негодны, наши солдаты не имеют ни вооружения, ни боевых припасов; продовольствия не хватает. Какие бы чудеса храбрости ни оказывали наши несчастные войска, они будут раздавлены простым превосходством материальных средств наших врагов. Вот 30 лет, как Россия играет в солдатики, проводит время в военных упражнениях и в парадах, забавляется смотрами, восхищается маневрами. А в минуту опасности она оказывается захваченной врасплох и беззащитной. В головах этих генералов, столь элегантных на парадах, не оказалось ни военных познаний, ни способности к соображению. Солдаты, несмотря на свою храбрость и самоотверженность, не могут защищаться за неимением оружия и часто за неимением пищи» (А.Ф. Тютчева).
Наступила эпоха, когда власть, не опирающаяся на национальное большинство и отчужденная от образованных слоёв, не может восполнять своё могущество и стремительно дряхлеет. Этого верховная власть не могла понять, и только военная катастрофа вынудила в следующем царствовании развернуться к реформам. Общество критически оценивало николаевское царствование как режим косности и всевластия. Но и элита страны не представляла себе, насколько слабым и недееспособным оказывается режим бюрократического абсолютизма. «В публике один общий крик негодования против правительства, ибо никто не ожидал того, что случилось. Все так привыкли беспрекословно верить в могущество, в силу, в непобедимость России. Говорили себе, что, если существующий строй несколько тягостен и удушлив дома, он, по крайней мере, обеспечивает за нами во внешних отношениях и по отношению к Европе престиж могущества и бесспорного политического и военного превосходства. Достаточно было дуновения событий, чтобы рушилась вся эта иллюзорная постройка» (А.Ф. Тютчева).
Верховная власть, формирующаяся вне традиционного православного русского миросозерцания, лишена исторической памяти и национального самосознания, поэтому её видение реальности иллюзорно, а действия – утопичны. «В политике наша дипломатия проявила лишь беспечность, слабость, нерешительность и неспособность и показала, что ею утрачена нить всех исторических традиций России; вместо того чтобы быть представительницей и защитницей собственной страны, она малодушно пошла на буксире мнимых интересов Европы» (А.Ф. Тютчева). Имеются в виду, среди прочего, и высокомерно-утопичные попытки Николая I дирижировать европейскими делами, в частности помогая Австро-Венгерской монархии подавить венгерское восстание. (Недальновидная политика русского императора усиливала будущего коварного врага России.) «Но дело оказалось ещё хуже, когда наступил момент испытания нашей военной мощи. Увидели тогда, что вахтпарады не создают солдат и что мелочи, на которые мы потеряли тридцать лет, привели только к тому, что умы оказались неспособными к разрешению серьезных стратегических вопросов» (А.Ф. Тютчева).
Царствование сильного и достойного во всех отношениях человека обнажило, насколько искажена национальная государственная традиция. «В короткий срок полутора лет несчастный император увидел, как под ним рушились подмостки того иллюзорного величия, на которые он воображал, что поднял Россию… И, тем не менее, именно среди кризиса последней катастрофы блестяще выявилось истинное величие этого человека. Он ошибался, но ошибался честно, и, когда был вынужден признать свою ошибку и пагубные последствия её для России, которую он любил выше всего, его сердце разбилось, и он умер. Он умер не потому, что не хотел пережить унижения собственного честолюбия, а потому, что не мог пережить унижения России. Он пал первой и самой выдающейся жертвой осады Севастополя, пораженный в сердце, как невидимой пулей, величайшей скорбью при виде всей этой крови, так мужественно, так свято и так бесполезно пролитой» (А.Ф. Тютчева).
Реакцией общества на бюрократическое засилье было очарование западными «свободами», что в свою очередь провоцировало борьбу с западными влияниями обскурантистскими методами. Так создавалась благоприятная атмосфера для заражения всякого рода «измами». Здоровые общественные силы лишились возможности влиять на общественно-политический процесс. Славянофилы были обруганы и вытеснены из официальной жизни, в результате почвеннические идеи развивались искаженно, принимая уродливые формы. Власть подталкивала общество к радикализации. Многие течения мысли, в свободной атмосфере безболезненно преодолевающие инфантильные крайности, принуждены были скатиться к экстремизму.
Борьба власти с вредными идейными увлечениями принимала идеологизированные формы, что не давало возможности опереться на органичные общественные силы и принимать адекватные решения. Духовную болезнь власти осознавали те, кто был вытеснен из общественной жизни: «Правительство не может, при своей неограниченности, добиться правды и честности – без свободы общественного мнения это невозможно. Все лгут друг другу, видят это и продолжают лгать… Всё зло происходит главным образом от угнетательной системы нашего правительства, угнетательной относительно свободы мнения, свободы нравственной», – писал Александру II К.С. Аксаков.
Тем не менее и вопреки господствующим тенденциям «под покровом сурового николаевского царствования накоплялась потребность решающих реформ, и силы к ним, и люди к ним, и, поразительно: просвещённых высоких государственных сановников свежие проекты коснулись даже действеннее, чем нечиновных членов образованного общества» (А.И. Солженицын).
В царствование Александра II власть частично освободилась от влияния идейных предрассудков. В России впервые появились официальная общественная жизнь и влиятельное общественное мнение – среда, где можно было вырастить противоидеологическую вакцину. При самодержце-патриоте удалось ориентировать на общественно-политическое созидание большую часть общества. Лучшие люди России были привлечены императором к проведению реформ. Александр II зимой 1856–1857 годов неоднократно обращался перед принятием решения о создании Секретного комитета по крестьянскому вопросу к записке Ю.Ф. Самарина «О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе». Крепостное право в «варварской» России было отменено по высочайшему повелению на четыре года раньше, чем в «демократических» США – после кровавой Гражданской войны. Надо сказать, что к моменту отмены крепостного права доля крепостных и дворовых в России составляла менее тридцати процентов, уменьшившись за полстолетия почти вдвое, – в стране шёл процесс естественного изживания крепостничества. Медленно, со скрипом российский государственный корабль выходил в новое историческое плавание. Но в атмосфере общественного потворства нигилизму и радикализму революционеры насильственно прервали путь, на котором Россия могла бы избежать катастрофы. Реформы подрывали социальную базу революции, поэтому были неприемлемы для экстремистского сообщества. Император Александр II был убит в тот день, когда подписал проект реформ Лорис-Меликова, утвердил создание преобразовательных комиссий с участием земств, что вело Россию к представительному строю, конституционной монархии.
Новая власть ответила на разгул террора отказом от реформ, что и было целью радикалов. В ночь после убийства отца Александр III отменил намеченную на утро публикацию в «Правительственном вестнике» манифеста Александра II о преобразовании Государственного совета, ограничивающего самодержавие введением народного представительства. Царь наложил на проект Лорис-Меликова резолюцию: «Слава Богу, этот преступный и спешный шаг к конституции не был сделан». В своём манифесте Александр III утверждал незыблемость самодержавной власти и исключительную ответственность самодержца перед Богом. «Русская империя вернулась, таким образом, на старые традиционные пути, на которых она когда-то нашла славу и благоденствие, но которые 35 лет спустя привели Россию к гибели, а Николая II – к мученическому венцу» (М. Палеолог). Идейной одержимости не избежали и крупные государственные деятели. Обер-прокурор Святейшего синода К.П. Победоносцев обличал перед новым императором великие реформы, которые, по его мнению, привели к беспорядкам и вызвали террор. Он призывал подморозить Россию. На террор революционной интеллигенции власть ответила идейным догматизмом и государственным закостенением. Государственная идеология эпохи Александра III – официальное славянофильствование – была направлена на оправдание духовной реакции и консервации. «За бомбистов получило всё русское общество реакцию 80-х годов, обратный толчок в досевастопольское время. Охранные отделения только тогда и были созданы, в ответ. (Да, впрочем, чего они стоили-то, по-нашему?)» (А.И. Солженицын). Земские реформы были оборваны и во многом повернуты вспять. «Александр III, предполагая во всякой общественной самодеятельности зародыши революции, тормозя большинство начинаний своего худо возблагодаренного отца, остановил и исказил развитие земства: ужесточил административный надзор за ним и сузил ведение его; вместо постепенного уравнения в нём сословий, напротив, выразил резче сословную группировку; ещё позволил дворянству, просвещённостью своей отворотившемуся от самодержавия, и оставил в униженном положении, даже с телесными наказаниями, – крестьянство, которое одно только и быть могло естественной опорой монархии» (А.И. Солженицын).
Жёсткими мерами удалось обуздать терроризм, носители идейного безумия были загнаны в подполье, при отсутствии государственной идеи и национального вдохновения в обществе сохранялась питательная среда для радикальных идеологий. Страна богатела во многом за счёт возможностей, созданных в предыдущем царствовании. Развивалась промышленность, в 1891 году началось строительство Великого cибирского пути. Прагматически умеренная, но лишённая стратегического видения политика Александра III обеспечила России мирные годы, но первая же война в следующем царствовании показала неготовность страны, неспособность правящего слоя осознавать и отстаивать геополитические интересы России в меняющемся мире. Ибо главная задача верховной власти – помимо решения текущих проблем – оздоровление, усиление организма нации в преддверии грядущих испытаний. «Государство отказалось от основной своей функции, развивающей и воспитательной, и стало просто закручивать гайки и давить общественную инициативу, которая к концу XIX века как раз начала созревать: появилось относительно независимое общественное мнение, было уже довольно много образованных людей, количество студентов росло колоссальными темпами. Успела развиться вполне зрелая печать. Да, этих людей было всего три процента населения, но на них уже можно было опираться. Государство же предпочло их давить… Вся политика Александра III свелась, по сути, к попытке задавить общество, вместо того чтобы с ним договориться» (Ф.А. Гайда).
Вновь, как и в эпоху Николая I, проявилось, что жизнь нации невозможно подморозить, как непосильно остановить ход истории. «Если вовремя не давать разумные свободы, то они сами себе пробьют пути. Россия представляет страну, в которой все реформы по установлению разумной свободы и гражданственности запоздали и все болезненные явления происходят от этой коренной причины» (С.Ю. Витте). Отказ отвечать на исторические вызовы консервирует историческую косность, ведёт к накоплению исторического фатума и рока, создает благоприятные условия для хаотических и инфернальных исторических сил, но, главное, закрепощает развитие положительных начал – самодеятельность общества и творчество человека. Вновь страна упустила историческую возможность для насущных реформ. В результате неразрешенные проблемы становятся неразрешимыми. После мирного царствования Александра III последовали катастрофы начала XX века. Власть, которая стремится подморозить живой национальный организм, не выполняет своей исторической миссии. Ибо самосохранение национального организма требует адаптации к изменчивому миру, адекватного ответа на вызовы эпохи. Назначение власти в том и состоит, чтобы вновь и вновь возрождать систему исторической адаптации, которая позволяет самосохраняться – развиваясь, обретать современные технологии и ресурсы для защиты национальной самобытности и идентичности, приобретать иммунитет в борьбе с враждебными силами, то есть усиливать здоровье нации, которое является основой внешней мощи. Этого сделано не было, поэтому в следующем царствовании «взорвались» те проблемы, которые не разрешались, а усугублялись в предыдущем. По форме праведная власть оказывается виновной в накоплении и прорыве исторического зла. Итогом застоя при Николае I было постыдное поражение в Крымской войне, итогом застоя при Александре III – позорное поражение в Русско-японской войне. Но ни у верховной власти, ни у общества уже не было духовных ресурсов для спасительной мобилизации национальных сил в роковых испытаниях.
Николай II не смог перенять лучшее у отца – стремление обеспечить России мирное развитие – и бросил Россию в две никчемные и гибельные войны. Самодержавие он пытался удержать всеми силами, не смягчал давление даже тогда, когда страна созрела для реформ, но терял контроль и шёл на необдуманные уступки под революционным напором. «Министр внутренних дел Сипягин, который натужно крепил приказный строй, как он понимал пользу своего Государя и страны, был убит террористами в апреле 1902 – и затем ещё два года ту же линию вёл умно-властный Плеве, пока не был убит и он под растущее ликование общества. Вился между ними макиавеллистый Витте, слишком хитрый министр для этой страны: всё понимая, он ничем не хотел рискнуть или пособить… Всё тою же цепенеющей, неподвижной идеей – как задержать развитие, как оставить жизнь прежнею, переходила российская власть в новый ХХ век, теряя уважение общества, возмущая бессмыслицей порядка управления и ненаказуемым произволом тупеющих местных властей. Расширение земских прав было останавливаемо. Студенческие волнения 1899-го и 1901-го резко рассорили власть и общество: в буйных протестах молодежи либералы любили самих себя, не устоявших так в своё время. Убийство министра просвещения студентом (в 1901-м) стало для общества символом справедливости, отдача мятежных студентов в солдаты – символом тирании. 1902-й ещё более обострил разлад между властью и обществом, студенческое движение бушевало уже на площадях, а напористый Плеве при извивах Витте отнимал у земства даже коренные земские вопросы – даже к “совещаниям о нуждах сельскохозяйственной промышленности” не хотел допустить земских собраний… Самодержавие так и обещало: оно не поступится ничем! Оно не прислушается и к самым доброжелательным подданным! Ибо только Оно одно (без народного Собора, с приближенными бюрократами, обсевшими лестницу взаимных привилегий) ведает подлинные нужды России» (А.И. Солженицын).
В последнее царствование верховная власть не была способна возвыситься до понимания рокового значения надвигающихся событий. Высоконравственный и кроткий Николай II как император не соответствовал грозным историческим вызовам: «В роковые годы – и такой бессильный над своей страной, такой не достигающий пределов мысли, и ещё безвольный? И ещё безъязыкий, и ещё бездейственный, – догадывался ли он сам обо всем этом?.. Не отдавал себе отчета в серьезности положения. Монарх – как будто не этой страны, не этой планеты. Он находил излишним всякое обновление внутренней политики и не хотел себя связывать никакой программой» (А.И. Солженицын).
От власти зависит многое в судьбе народов, тем более от власти самодержавной. Верховная власть в России в течение столетия оказалась неспособной эффективно бороться с революционным брожением в обществе. За исключением царя-реформатора Александра II власть либо замораживала реформы, либо шла на судорожные запоздалые уступки. «Быть может, главная причина, по которой рушатся государственные системы, – психологическая: круги, привыкшие к власти, не успевают – потому что не хотят – уследить и поспеть за изменениями нового времени: начать благоразумные уступки ещё при большом перевесе сил у себя, в самой выгодной позиции. Мудр тот, кто уступает, стоя при оружии, а не опрокинутый навзничь. Начать уступать – беспрекословность авторитета, власть, титулы, капиталы, земли, бесперебойное избрание, когда все эти твои права ещё облиты щедрым солнцем, и ничто не предвещает грозу! – это ведь трудно для человеческой натуры. В России такие благоразумные изменения уже начинались при Александре I, но непредусмотрительно были отвергнуты и покинуты: победа над Наполеоном затмила умы александровским мужам, и то лучшее, благоденственное время реформ – сразу после Отечественной войны – было упущено. Восстание декабристов рвануло Россию в сторону, победитель его Николай I плохо понял свою победу (побед и не понимают обычно, поражения учат беспощадно). Он вывел, что победа есть ему знак надолго остановить движенья, и только в конце царствования готовил их. Александр II уже и спешил с реформами, но стране не пришлось выйти из колдобин на ровное место. Террористы – своим ли стадным инстинктом или каким-то дьявольским внушением – поняли, что именно теперь их последнее время стрелять, что только выстрелами и бомбами можно прервать реформы и возвратиться к революции. Им это удалось и даже дальше, чем задумано: они и Александра III, по широте характера способного уступать, по любви к России не упустившего бы верных её путей, – и Александра III загнали в отъединение и в упор. И снова упускалось время. Николай II, внезапно застигнутый короной, и по молодости, и по характеру особенно был не подготовлен к самым бурным годам России. Девятьсот Первый, Второй и Третий проносились мимо него мигающими багровыми маяками, – он со всем своим окружением не понял их знаков, он полагал, что неизменно послушная Россия непременно управляется волею того, кто занял русский трон, – и так легкомысленно понесся на японские скалы. Испытания, выпавшие ему в те годы, были по силам разве такому, как Пётр, а больше, может быть, никому в династии. Тогда в потерянности он заслонился Манифестом» (А.И. Солженицын).
В лице Петра Аркадьевича Столыпина к российской власти кратковременно вернулось государственное здравомыслие. Он четко видит источник и формы зла: «Для всех теперь стало очевидным, что разрушительное движение, созданное крайними левыми партиями, превратилось в открытое разбойничество и выдвинуло вперёд все противообщественные преступные элементы, разоряя честных тружеников и развращая молодое поколение». Столыпин понимает ответственность власти в решающий момент истории: «Бунт погашается силою, а не уступками… Чтоб осуществить мысль – нужна воля. Только то правительство имеет право на существование, которое обладает зрелой государственной мыслью и твёрдой государственной волей». Он сознает, что основная задача – преодолеть отрыв правящего слоя от исконно русской традиции, что необходимо «восстановление порядка и прочного правового уклада, соответствующего русскому народному самосознанию». Он предупреждает: «Народы иногда забывают о своих национальных задачах, но такие народы гибнут». И, наконец, Столыпин уповает: «Мы строим леса для строительства, противники указывают на них как на безобразное здание и яростно рубят их основание. И леса эти неминуемо рухнут и, может быть, задавят нас под своими развалинами, – но пусть, пусть это случится тогда, когда уже будет выступать в главных очертаниях здание обновленной свободной России».
В атмосфере разнузданной травли Столыпина со всех сторон Николай II отдаляется от собственного премьер-министра. Обреченный на непонимание и одиночество, последний здравомыслящий и волевой человек у власти, не запуганный всеобщим беснованием («не запугаете»), после девяти покушений – убит. Николай II мог реагировать на всё с кротостью монаха, тогда как ситуация требовала государственной воли монарха. После Столыпина в окружении царя не оказалось никого, кто был бы пригоден для решения задач государственного масштаба в трагические для страны годы. Это было результатом духовного повреждения общества, которое оказалось неспособным воспитывать деятельную, ответственную и религиозно-нравственно цельную элиту.
Немногие в противовес всеобщему улюлюканью были способны трезво поддержать государственные устои России: «Да, русская печать и общество, не стой у них поперек горла “правительство”, разорвали бы на клочки Россию и роздали бы эти клоки соседям даже и не за деньги, а просто за “рюмочку” похвалы. И вот отчего без нерешимости и колебания нужно прямо становиться на сторону “бездарного правительства”, которое всё-таки одно только всё охраняет и оберегает. Которое ещё одно только не подло и не пропито в России» (В.В. Розанов).
Правящий слой был либо запуган разгулом радикальных настроений, либо обезволен гипнозом революционных догм. В среде государственной бюрократии с середины XIX века были модны заигрывания с левыми кругами. Общественное мнение в России, по выражению Лескова, – это «либеральная жандармерия, пожестче правительственной… клеветнический террор в либеральном вкусе». Репутация правого в глазах общественного мнения постыдна, каждый общественно-политический деятель чувствовал себя как бы обязанным отчетом за «чистоту» понятий перед диктующим взглядом слева, ибо носителями идеалов социальной справедливости считались только левые.
Это влияло на образ мыслей и действия правительственной бюрократии, которая либо поддавалась всеобщему крену влево, либо откатывалась к крайне правым позициям. Защитная реакция государства и Церкви сводилась к попыткам законсервировать жизнь, вновь подморозить Россию, чтобы предотвратить внедрение чуждых и душевредных идей. Утопические попытки не могли быть целительными.
Нельзя сказать, что альтернативой «левой» лжи была «правая» истина. В обществе почти не осталось сфер, не зараженных нарастающим безумствованием. Экстремистские лозунги разного толка способствовали разжиганию страстей, но это не была борьба истины с ложью. Всеобщая гонка за миражами могла кончиться только тем, чем закончилась: войной всех против всех (то есть войной гражданской). Всё шло к роковому концу, который предощущал Достоевский: «Европейская революция начнется в России, ибо нет у нас для неё надёжного отпора ни в управлении (правительстве), ни в обществе». Историческую вину за русскую катастрофу несёт русская интеллигенция. «Честно и мужественно она должна сказать себе, что революционное крушение русского государства есть, прежде всего, её собственное крушение: это она вела, и она привела Россию к революции. Одни вели сознательною волею, агитацией и пропагандой, искушениями и экспроприациями. Другие вели проповедью непротивленчества, опрощения, сентиментальности и равенства. Третьи – безыдейною и мертвящею реакционностью, умением интриговать и давить и неумением воспитывать, нежеланием духовно вскармливать, неспособностью зажигать свободные сердца… Одни разносили и вливали яд революции; другие готовили для него умы; третьи не умели (или не хотели) – растить и укреплять духовную сопротивляемость в народе» (И.А. Ильин).
В основе своей кризис власти в России тоже был кризисом духовным. Хотя российская власть только и делала, что боролась с революцией, она не смогла обрести опору в обществе. Существующую опору она неуклонно теряла. И действия властей, и бездействие в решительный момент во многом способствовали духовному заболеванию общества, ослабляя Россию перед нашествием современных духов зла. Российский государственный дом строился веками, трудно и медленно. К XX веку было многое достигнуто, с начала века Россия превращается в ведущую мировую державу. Но отрывающаяся от национальной почвы интеллигенция оболгала русскую историю и жизнь, ибо не хотела видеть достижения России. Действия по искажённым представлениям подрывали созидание и разрушали духовный фундамент страны. В 1917 году победили самые радикальные силы, взращённые образованным обществом в предшествующее столетие.
Идеология разлагала сознание всех слоёв общества: культурные сословия становились индифферентными по отношению к священным жизненным началам, а орден интеллигенции воинствующе враждебен Православию и российской государственности. Но жизнь народа ещё покоилась на христианском мироощущении, русская культура была ещё пропитана Православием, несла в себе многие его возвышенные идеалы. Духовное сопротивление внедрению идеомании заставляло её носителей сосредоточиться на решающем направлении – на разрушении традиционной российской государственности, для чего необходимо захватить государственную власть. Двадцатый век и открывает эпоху политических революций, идейно подготовленных веком предшествующим.
ИДЕОКРАТИЯ В РОССИИ
Предисловие
В чём причина нескончаемых бедствий России в XX столетии? Отчего население богатейшей страны прозябает в нищете? Почему падение коммунистического режима в 1991 году не принесло избавления, но вызвало разруху, хотя многим открылась чудовищная сущность коммунизма и, казалось, болезнь отступила? Может быть, это не выздоровление, а ремиссия – временное ослабление проявлений болезни, и её метастазы продолжают расползаться по организму? Или идеи коммунизма живут и побеждают, хотя и в других формах? Не переживали ли мы в девяностых новый приступ идейного помутнения?
Сменовеховцы, евразийцы, национал-большевики считали, что коммунизм – меньшее зло. Им казалось, что большевики ценою огромных жертв восстановили российское государство и защитили его от растлевающего влияния западной цивилизации, от агрессивных притязаний индустриальных держав. История кроваво опровергла эти иллюзии. Но когда пагубные последствия коммунистического господства стали очевидными, вновь возникают различные формы его апологии. Невозможно согласиться с мнением, высказанным в первой половине девяностых годов владыкой Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским: «Революционеры – разрушители, после уничтожения русской государственности ощутившие на себе всю полноту бремени державной ответственности, оказались вынужденными – пусть в изуродованной и извращённой форме – вернуться к вековым началам соборности». Изуродованная и извращённая соборность является чем-то прямо противоположным соборности, так же как изуродованный и извращённый, то есть ложный, облик Христа явит собой не кто иной, как антихрист. Большевики по природе вещей не способны ощутить на себе всю полноту бремени державной ответственности, тем более руководствоваться ею, ибо разрушали российское государство для того, чтобы заменить его антинациональной кровавой диктатурой – оплотом мировой революции.
Не соответствует трагической истории убежденность коммунистов, что Советский Союз спас мир от фашизма. Гитлеризм победил не сталинизм, а русский народ. Советский коммунизм во многом спровоцировал приход к власти в Германии национал-социалистов, которые использовали реакцию общества на коммунистическую угрозу. (Нацистская пропаганда основывалась на уничтожении «еврейского коммунизма», «борьбе с азиатско-еврейской угрозой»). Сталин поддерживал нацистов в борьбе за власть, оказывал им экономическую помощь и в вооружении вермахта. Сталинские авантюры по разжиганию войн в Европе существенно повлияли на усиление Германии, на провоцирование Второй мировой войны. Сталинские пятилетки готовили страну к войне захватнической – на территории противника, а не оборонительной, отчего армия оказалась неспособной отразить превентивное нападение Германии. Сталинские чистки обескровили армию и общество перед войной, поэтому победа стоила невероятных жертв.
Разделение Европы, навязанное после войны Сталиным, на десятилетия ввергло мир в войну холодную, которую СССР проиграл. В борьбе за мировое господство коммунизма истощались силы России. Могущество Советского Союза, построенное на крови миллионов своих граждан, было однобоким и не выдержало, в конце концов, жёсткой конкуренции с Западом. Причины беззащитности постсоветского общества перед культурной и экономической экспансией Запада следует искать в том, что железный занавес лишил нас возможности выработать иммунитет в здоровом соперничестве с западной потребительской цивилизацией и массовой культурой. Будто кто-то твёрдой большевистской рукой опустил этот занавес на десятилетия, чтобы в нужный момент поднять его. Всё, что составляло своеобразие и уникальность России, последовательно уничтожалось коммунистами. Интернациональный коммунизм радикально враждебен исторической России.
С февраля 1917 года началось своего рода вавилонское пленение России, не только были разрушены традиционное государство, хозяйство и культура, но и уничтожены жизненные центры национального организма. Поэтому восстановление может начаться с возрождения исторической памяти и национального самосознания. Прежде всего мы должны осознать, какие превращения в национальной душе привели к трагедии XX века?
Два русских гения осмысляют это в понятиях «социализм» и «болезнь». Ф.М. Достоевский характеризовал социализм как духовную одержимость, беснование, реализацию фантасмагорического бреда. Он говорил о трихинах, существах микроскопических, не сущих – не обладающих самостоятельной сущностью, но являющихся возбудителями и носителями болезни духа: «Идеи летают в воздухе, но непременно по законам, идеи живут и распространяются по законам слишком трудно для нас уловимым: идеи заразительны». Достоевский предвидел невиданный мировой мор: «Новое построение возьмёт века. Века страшной смуты». А.И. Солженицын пишет роман «Раковый корпус», описывает ГУЛАГ в терминах раковой болезни, говорит о коммунизме как о раковой опухоли, о метастазах социализма, о вирусе коммунизма. Эти образы наиболее адекватно обозначают происшедшее: мы были тяжело больны духовно. Человечество накопило огромный опыт в опознании болезней тела и души, но к новым смертельным духовным болезням оказалось неподготовленным. Современное материалистическое и позитивистское сознание склонно отрицать сам факт такой болезни.
Последние двести лет российской истории определяются тем, что русская православная цивилизация противостоит экспансии тлетворных идеологий (современных духов мирового зла). С одной стороны, органичный уклад жизни и традиционное мировоззрение – всё, чем строилась и жила Россия в течение тысячелетия. С другой – атеистическая материалистическая утопия, волонтеры которой стремятся радикально перекроить жизнь. Богоборческая идеология чужда русскому народу, но ею заразился русский образованный слой, она вобрала в себя накопившиеся в русской культуре духовные яды, усилила нестроения, углубила расколы в русской истории. В результате общество впадало в идейную манию, которая и была причиной катастрофы 1917 года.
Чтобы вменяемо действовать, необходимо осмыслить природу этой болезни и её носителей, определить, что она искажает в душе; как поражает сознание – личное и коллективное, как продукты воспаленного сознания взрывают историю, культуру, общество; каким образом генерируется поле заражения и как в идеологической атмосфере формируется система искажённых представлений – мифов, фикций, иллюзий, а ложные идеи в культуре (духовные вирусы) оказываются носителями и возбудителями болезни духа.
Атеистическая материалистическая идеология, воплощение которой неизбежно приводит к тотальной лжи и насилию, массовому истреблению людей и разрушению органичной жизни, была сформирована в западноевропейской культуре. Свирепый английский король Генрих VIII и череда французских кровавых королей имеют к этому не самое прямое отношение, но всё же более близкое, чем Иван Грозный и Пётр I. Однако многие авторы именно с этими российскими персонажами всё ещё связывают «извечный русский тоталитаризм».
Россия не была идеальным царством; как у всех, было в её истории тёмное и греховное, но всё же русский народ был к себе нравственно взыскательным. В России не зародились атеистические материалистические учения, а русские деятели века Просвещения от Ломоносова до Державина были глубоко верующими людьми, в отличие от французских просветителей. Вместе с тем Россия оказалась почвой, на которой семена нигилистической идеологии дали самые кровавые всходы.
Духовное помутнение – это болезнь культуры и общества, поэтому в отличие от психических болезней оно может захватывать массы людей. Причиной психических заболеваний является нейрофизиологическая патология и травмы индивидуального подсознательного или бессознательного. Духовное же помутнение внедряется через сознание, поражая сферу бессознательного и волю, превращая человека в идеомана. Западноевропейская культура породила различные виды идеомании: материализм, атеизм, рационализм, идеализм, позитивизм, постмодернизм. Это своего рода штудии интеллектуальной деградации, этапы прогрессирующего паралича личности, которые подготавливают её к восприятию агрессивных массовых социальных галлюцинаций – коммунизма, социализма, фашизма. Так как возбудители идейного беснования были выращены в европейских лабораториях мысли, европейское общество выработало противоядие и переболело в легких формах. Россия же оказалась лишённой иммунитета: в течение предреволюционного столетия идеологические трихины прививались на незащищенную почву и потому дали зловещие плоды.
«На Западе социализм лишь потому не оказал разрушительного влияния, и даже наоборот, в известной степени содействовал улучшению форм жизни, укреплению её нравственных основ, что этот социализм не только извне сдерживался могучими консервативными культурными силами, но и изнутри насквозь был ими пропитан; короче говоря, потому что это был не чистый социализм в своём собственном существе, а всецело буржуазный, государственный, несоциалистический социализм… Внешне побеждая, социализм на Западе был обезврежен и внутренне побежден ассимилирующей и воспитательной силой давней государственной, нравственной и научной культуры» (С.Л. Франк). Гипотезы и фантасмагории европейских маньяков у нас превратились в катехизис для образованного общества. Российский национально-государственный организм оказался беззащитным перед экспансией чёрной духовности потому, что был ослаблен чередой исторических испытаний.
Сказанное не означает, что всё зло в человеке происходит от идеологии. Но идеологическая маниакальность усиливает человеческие пороки, разлагает духовную основу личности. Концентрируя человеческие заблуждения, идейная одержимость овладевает обществом, в невиданной форме с роковой внезапностью вторгается в судьбу народа. Оно разрастается до эпидемий, до массового мора, захватывает огромные пространства и коллективы людей. Последние сто пятьдесят лет отличаются огромным влиянием на души людей идеологии как новой формы зла. Основной диагноз российских бедствий – идеологическое разложение христианских основ жизни.
Почему радикальные идеологические доктрины оказались наиболее разрушительными в России именно в тот момент, когда она была близка к процветанию?! Премьер-министру Петру Аркадьевичу Столыпину за несколько лет удалось развернуть огромную страну на путь плодотворных преобразований. «И в те же самые годы мощно росла буржуазная Россия, строилась, развивала хозяйственные силы и вовлекала в рациональное и европейское и в то же время национальное и почвенное дело строительства новой России. Буржуазия крепла и давала кров и приют мощной русской культуре. Самое главное, быть может: лучшие силы интеллигентского общества были впитаны православным возрождением, которое подготовлялось и в школе эстетического символизма, и в школе революционной жертвенности» (Г.П. Федотов). В начале XX века Россия оставалась крестьянской страной (крестьян – 80% населения), вместе с тем она входила в пятёрку наиболее развитых промышленных стран, а прирост производства был одним из самых высоких в мире. Это сопровождалось быстрым ростом населения. За два десятилетия до мировой войны в России резко увеличилось потребление жизненно важных для большинства населения товаров, одновременно вдвое увеличились крестьянские взносы в сберегательные кассы. Быстрыми темпами развивалась кооперация, охватившая более половины сельского населения страны. В результате совершенствования рабочего законодательства юридическое положение рабочих в России было лучше, чем в США и Франции. Россия обладала высокой притягательностью для других народов: была вторым после США центром иммиграции в мире. В конце 1913 года известный французский редактор Эдмонд Тэри, которого французское правительство специально направило в Россию для изучения столыпинских реформ, писал: «Если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом с 1912 по 1950 г., как они шли с 1900 по 1912 г., то к середине текущего столетия Россия будет доминировать в Европе, как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении». Эти выводы подтвердила немецкая комиссия во главе с профессором Аугагеном: через десять лет Россию не догонит никакая страна. В сороковые годы Иван Солоневич писал о возможных результатах развития России: «При довоенном темпе роста русской промышленности Россия сейчас имела бы приблизительно в два раза большую промышленность, чем СССР. Но без сорока или даже ста миллионов трупов».
Возрастание могущества России не устраивало определённые мировые силы, которые всячески поддерживали революционное брожение и подталкивали её к мировой войне. Большинство интеллигенции не ценило положительных преобразований, пребывая в маниях: страна – «азиатская», власть – враждебная. Россия оказалась ослабленной историческими испытаниями, беззащитной перед идейным заражением с Запада, с предательской колонной в образованном обществе. Могучая процветающая страна оказалась пропитана возбудителями духовного разложения. В результате наша Родина стала первым полигоном для широкомасштабного испытания идейной чумы, была превращена в общемировой раковый корпус.
Коммунистический режим принято определять как тоталитаризм – всевластие государства, или партократия – диктатура партии. Прежде всего это идеократия – тотальная власть радикальной идеологии. Партия как субъект идеологической экспансии подчиняла идеологии государство, общество, сознание и образ жизни людей. Идеократию учреждали не только коммунисты и фашисты, эта прельстительная идея эпохи имела интеллигентские аналоги. Евразийцы идеократией называли государство нового типа – идеал евразийского государства. Они считали, что сталинизм испорчен коммунистической идеологией, но идеократия евразийцев списана с большевизма и является типичной тоталитарной утопией. Идеократический режим паразитировал на историческом теле России: на государственности, на культуре, на обществе, на конкретных людях. Поэтому в каждом жизненном факте нужно отделять антибытийную деятельность паразита от творческой деятельности живого организма. Конечно, у советской власти были достижения. Но эти достижения нужно мерить, во-первых, их ценою, и, во-вторых, их целью. Цена – миллионы смертей и рабство оставшихся, а цель – дальнейшее порабощение мира. Источником же достижений и побед (как в Великой Отечественной войне, например) был народ, и не благодаря, а вопреки коммунистическому режиму.
Сначала рассматривается внедрение идеология небытии в русскую культуру и общество, формы и этапы её экспансии. Затем анализируется феномен советского коммунизма, режим государственной власти идеологии – идеократии в её истоках, динамике и превращенных формах. Публикации на эту тему могли набить оскомину, но общество до сих пор не осмыслило причин сатанинской жизнестойкости марксизма-коммунизма. Далее будут рассмотрены этапы внедрения, победы, экспансии, внутреннего разложения и мимикрии идеократии («безбожной теократии», по словам протоиерея Сергия Булгакова) в России.
Глава 2. ДУХОВНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ
(до 1917 года)
Идеологизация общества и власти
С начала XIX века русский образованный слой – больной интеллект нации – оказался носителем разнообразных форм идеомании – от идеализма до марксизма. Эскалация заражения проходит этапы революционного движения: дворянский, разночинский, народнический, марксистский.
В марксистский период деятельность идеологических сил консолидируется в трёх направлениях: 1) разложение культуры и традиционного уклада жизни, воплощающего православное жизнеощущение, расшатывание устоев общества, государства, частной жизни; 2) создание «плоти» идеологии – партии, по словам Ленина, «немногочисленной, но безусловно преданной группы революционеров»; интернационалистическое марксистское мировоззрение является критерием членства в партии; 3) разрушение государственного строя и подготовка к захвату власти.
К началу ХХ века ведущий слой России отвергал традиционные духовные ценности, на которых строились русская цивилизация и российская государственность. В результате власть оказывалась неспособной адекватно реагировать на исторические вызовы, а общество борется с властью во имя торжества «революционных» идей. В обострившейся ситуации с конца 1904 года Николай II до последнего сопротивлялся насущным преобразованиям, но когда ситуация становилась бесконтрольной, судорожно шёл на уступки. В ответ властители умов, опережая друг друга в возгонке революционной волны, резко радикализировали свои требования. «Так уступала сила, признающая только силу. А в открывшуюся калитку хлынул Союз Освобождения, который “полнее” представлял Россию, чем земцы, – и вот уже ворота разносил! Союз не имел дисциплины, организации, но все замыслы его тотчас подхватывались сочувствующей интеллигенцией, и в этом была его сила. По его директивам стали создаваться в стране союзы профессий, сперва только интеллигентных – адвокатов, писателей, актеров, профессоров, учителей, – но не для защиты профессиональных интересов, а – для подачи трафаретных единых предложений: о всеобщем избирательном праве, Учредительном Собрании, конституции. Это раскинулось и на всё и на всякие другие профессии, какие только можно было словами назвать, – союзы ветеринарный, крестьянский, еврейского равноправия, – и все подавали одни и те же предложения, а вот слились и в единый Союз союзов, который и явился уже собственно “волей народа” (Милюков) – а чем же другим? (Разве что по Троцкому: “земской уздой, накинутой освобожденцами на демократическую интеллигенцию”.) Главная задача была – раскалить общественную обстановку! Сам Союз Освобождения давно уже потерял внутренний паритет между земцами и не-земцами, всё больше затоплялся левыми интеллигентами и разрастался налево, налево, налево. В апреле 1905-го состоялось ещё одно общеземское совещание – все под влиянием освобожденцев, банкетов, резолюций, “превосходное в радикализме, устанавливая новый политический рекорд” (Милюков)» (А.И. Солженицын). В атмосфере идейной маниакальности (С.Ю. Витте свидетельствовал: «прогрессивные бегающие идеи… умственные и духовные болезненные эпидемии… революционные недоумения… особый вид умственного помешательства масс») в обществе кристаллизуются центры идеологической экспансии, которые скоординированы общей «генетической» программой. Организационное структурирование и легализация революционной когорты резко увеличивают её разрушительную силу.
Идеологическая мания, овладевшая обществом, диктовала более радикальные идеи и требовала более разрушительных действий. «Что за изумительное, сладчайшее время наступило для мыслящей русской интеллигенции! Самодеятельный кружок седовласых законоведов – Муромцева, Ковалевского, вместе с ученой молодежью сидел, под тяжелую пальбу Цусимы вырабатывая будущую русскую конституцию (где предпочитались выборы “прямые”, чтобы избранные были меньше связаны с местными условиями, меньше обязаны своим избирателям и оказались бы не деревенские, а свободные высококультурные люди). Уже собирались пожертвования на будущую партию интеллигенции от богатых дам и широкощедрых купцов. В лучших особняках разряженная богатая свободная публика с замиранием сердца слушала новых модных смелых лекторов… Обстановка призываемой, приближаемой, изо всех интеллигентских сил нагнетаемой революции – симуляции революции (ее ещё нет, но вести себя так, как будто она уже началась и освободила нас!), всё больше и больше нравилась передовому русскому обществу. Союз союзов проводил съезды чуть не по два раза в месяц и призывал своих членов повсюду в стране не просить свободу, а “брать её, явочным порядком”, как тогда говорилось: раздвигать локтями, искать поводов для демонстраций, для политической борьбы, устраивать совещания, собрания, митинги» (А.И. Солженицын).
В эпоху общественной одержимости решающую роль играют не объективные обстоятельства, но состояние и настрой ведущего слоя общества: «…вся интеллигенция охвачена как бы поветрием, заразительной болезнью: ругать правительство, теряя чувство ответственности перед государством и народом. Чтобы подорвать правительство – готовы на все» (А.И. Солженицын). Либеральная часть общества, растлевая нравственно-духовные устои и усугубляя тлетворную идейную атмосферу, готовила возможности для радикально-революционного ордена русской интеллигенции: «Да ещё и все виды социалистов в те же самые недели занимались “развязыванием” революции в массах, а боевые эсеровские дружины по разным губерниям и сельским местам убивали околоточных, урядников и даже губернаторов, – и массы всё более сознательно откликались забастовками и поджогами помещичьих усадеб – “иллюминациями”, как шутил Герценштейн» (А.И. Солженицын).
Издание в августе 1917 года высочайшего Манифеста об учреждении законосовещательной Думы уже не могло умиротворить ситуацию. «Всего полгода назад упрямая власть не хотела удовлетворить и самых малых требований – теперь уже и большие уступки не насыщали общества… Но теперь не силу, а слабость показывало правительство, идя на реформу не из устойчивого доброго намерения, а под угрозами; каждым словом и каждым шагом выявляло правительство, что не понимает оно положения страны, настроения общества и не знает, как лечить их и делать что. Все умеренные элементы стихли и отодвинулись, все рассерженные не покидали митингов и разливались в газетах. Предложенная Дума была отвергнута не только большевиками – даже и милюковская группа колебалась (очень чутко оглядываясь почему-то на Троцкого), а тут ещё эту группу на месяц посадили в “Кресты” – всё делая нелепо, всё делая как власти хуже, и через месяц выпустили без единого допроса, только прибавив ореола. Уже вступила верховная власть России в тот безнадежный круг, когда разум отнят Богом» (А.И. Солженицын).
Опаздывая и неадекватно реагируя на бурные общественные события, власть попадала в роковой круг: и бездействие, и её активность ухудшали положение. Манифест 17 октября 1905 года, «поворачивающий одним косым ударом весь исторический ход тысячелетнего корабля, как будто был вырван из рук самодержца вихрем поспешности, едва ли не раньше, чем тот сам перечел его второй раз, дан в таких попыхах, в такой катастрофической срочности (отчего? как это было понять из Саратова, Архангельска, Костромы?), что не только разъяснений местным властям не было подготовлено и послано (и все толковали его по-своему, революционеры – как можно шире, и в городах сталкивались до крови демонстрации сочувственные и враждебные), – но в самом себе Манифест ещё не содержал ни одного готового закона, а лишь ворох обещаний, почти лозунгов, первей всего – свободы слова, собраний и союзов, затем: к выборам в Государственную Думу… Неизвестно ещё как выбранной в будущем, ей уже заранее доверялась неизменность той будущей системы. Торопились влезть в петлю и затянуть её на своей шее. Сама же избирательная система пришла двумя месяцами позже, от кружка расслабленных государственных старцев, и опять поспешная, плохо обдуманная, десятикратно запутанная: и не всеобщая, и не сословная, а цензовая, например перед рабочими даже заискивали, давая им гарантированные места в Думе, отделением ото всего населения укрепляя в них ощущение своей особости» (А.И. Солженицын).
Решения власти не мотивировались историческими нуждами, но отражали идеологический катехизис образованного общества. «А даже и не был избирательный закон результатом только испуга и поспешности, но лежали в его основах ошибки коренные. Одна: что необъятная, неохватная, почти целый материк, богатырская и дремучая, ярко самостоятельная Россия не может и не должна открыть ничего подходящего себе другого, чем выработали для себя несколько тесных стран Европы, напоенных культурой, с несравнимой историей и совершенно иными представлениями о жизни. Другая ошибка: что вся крестьянская, мещанская и купеческая национальная масса этой страны нуждается в том именно, чего требуют громким криком безосновательные кучки в нескольких крупных городах. И третья: что при несхожем по образованности, по быту, по навыкам составе населения уже созрела пора и вообще возможно разработать такой избирательный закон, чтобы вся корявая масса послала в Думу именно своих корявых представителей, соответственных истому облику и духу России, а не была бы на подставу подменена острыми развязными бойчаками, которые выхватят ложное право глаголить от имени всей России… Сростясь с имущим напуганным дворянством, российская государственная власть и в прошлом царствовании, и в нынешнем не доверяла своим крестьянам и, декорируя парламент, тоже искажала их нормальное развитие. Не доверяла истой сущности России и её единственному надежному будущему… Манифест только дальше распахнул ворота революции, а теперь призываемому премьер-министру предстояло закрыть их, оставаясь под сенью Манифеста же: только законными методами законного правительства, руками, оплетенными пышноцветными лентами Манифеста, надо было вытягивать живую Россию из хаоса» (А.И. Солженицын).
Вырванные уступки власти предоставляли новые плацдармы для радикалов: «День открытия 1-й Думы 27 апреля 1906-го стал не днем национального примирения, но днём нового разгара ненависти. Кадеты шли на открытие Думы, размахивая в такт шляпами, как политические солдаты» (А.И. Солженицын).
Политические революции – это прорыв в судьбу народа исторического рока, в них кристаллизуются многие грехи и ошибки предшествующих поколений. В революционные периоды над явью торжествует фантасмагория, привычно незыблемое вдруг испаряется, всяческая несообразность и нечисть узурпирует реальность. «В революциях так: трудно сдвигается, но чуть расшат пошёл – он всё гулче, скрепы сами лопаются повсюду, открывая глубокую проржавь, отдельные элементы вековой постройки колются, оплавляются, движутся друг мимо друга, каждый сам по себе, и даже тают» (А.И. Солженицын). По роковым законам истории «великие кризисы, кары наступают обычно не тогда, когда беззаконие доведено до предела, когда оно царствует и управляет во всеоружии силы и бесстыдства. Нет, взрыв разражается по большей части при первой робкой попытке возврата к добру, при первом искреннем, быть может, но неуверенном и несмелом поползновении к необходимому исправлению. Тогда-то Людовики шестнадцатые и расплачиваются за Людовиков пятнадцатых и Людовиков четырнадцатых» (Ф.И. Тютчев).
Собственную историческую несостоятельность русская интеллигенция списывала на счёт монархической власти. При этом «кадетствующее чиновничество получает содержание от правительства и одновременно проявляет свою к нему оппозицию: состоит на государственной службе, а тайно – агитирует или участвует в революционных группах. Представители власти – как в параличе вялости, растерянности, боязни. Служащих, деятельных против дезорганизации, террористы безнаказанно убивают. Страх, одолевший власть, это – уже поражение её, уже – торжество революции, даже ещё не совершенной» (А.И. Солженицын).
Революция 1905 года привела к очередным расколам и перегруппировке в стане революционной интеллигенции. «И в удаче и в неудаче своей она оказалась гибельной для интеллигенции. Разгром революционной армии Столыпиным вызвал в её рядах глубокую деморализацию. Она была уже не та, что в восьмидесятые годы: не пройдя аскетической школы, новое поколение переживало революцию не жертвенно, а стихийно. Оно отдавалось священному безумию, в котором испепелило себя. Дионисизм вырождался в эротическое помешательство. Крушение революции утопило тысячи революционеров в разврате. От Базарова к Санину вёл тонкий мост, по которому пошло почти всё новое поколение марксистов. Лучшие впитывались творящейся русской культурой, слабые опускались, чтобы всплыть вместе с накипью русского дна в октябре 1917 г.» (Г.П. Федотов). По одну сторону идейных баррикад интеллигенция духовно маргинализовывалась, готовя кадры для переворота, по другую от марксизма к идеализму возвращалась к духовным основам.
Верховной власти в лице П.А. Столыпина был дан шанс справиться с революционным беснованием и провести оздоровительные реформы, которые не получили поддержки общества и бюрократии. Когда страна пылала от революционного разгула: горели поместья, рвались бомбы, бастовали заводы, бунтовали воинские части – «мысль Столыпина была: чем тверже в самом начале – тем меньше жертв. Всякое начальное попустительство лишь увеличивает поздние жертвы. Миротворящие начала – где можно убедить. Но этих бесов не исправить словами убеждения, к ним – неуклонность и стремительность кары. Что же будет за правительство (и где второе такое на свете?), которое отказывается защищать государственный строй, прощает убийства и бомбометание? Правительство – в обороне. Почему должно отступать оно – а не революция?.. Изъять массы оружия; восполнять места бастующих – под охраною войск, добровольцами из патриотических организаций, – но не давать им оружия и права междоусобицы; твердо поддержать полицию, чья служба особенно тяжела. Именно суд своей правильной, твёрдой и быстрой деятельностью значительно устранит применение административного воздействия. Но слабость судебной репрессии деморализует всё население» (А.И. Солженицын).
Столыпин сознавал гибельность революционного духа, охватившего российское общество, и понимал, как можно и необходимо ему противостоять: «Разрушительное движение, созданное крайними левыми партиями, превратилось в открытое разбойничество и выдвинуло вперёд все противообщественные преступные элементы, разоряя честных тружеников и развращая молодое поколение… Бунт погашается силою, а не уступками… Чтоб осуществить мысль – нужна воля. То правительство имеет право на существование, которое обладает зрелой государственной мыслью и твёрдой государственной волей». Российский премьер-министр ввёл на восемь месяцев военно-полевые суды для особо тяжких преступлений: грабительств, убийств, нападений на полицию, власти и мирных граждан. Установил уголовную ответственность за антиправительственную пропаганду в армии, за восхваление террора. Смертная казнь применялась только к бомбометателям и убийцам. Защитные меры от гибели страны были именованы в образованном обществе столыпинским террором.
В интервью французскому журналисту Гастону Дрю Столыпин определил свою позицию: «Да, я схватил революцию за глотку и кончу тем, что задушу её, если… сам останусь жив». Борьба действительно шла не на жизнь, а на смерть. Впоследствии столыпинские репрессии были крайне преувеличены – не только в советское время, но и демократической общественностью девяностых годов, хотя количество жертв военного положения при Столыпине не сравнимо с коммунистическим террором. Власть защищалась менее свирепо, чем действовали террористы: «Число смертных казней за 1906–1909 гг. составило 2825 человек. Число жертв террора было ещё больше, за три года было 26 628 покушений, 6091 убийство должностных и частных лиц, свыше 6000 раненых» (С. Рыбас).
Политическая воля Столыпина основывалась на православном патриотическом жизнечувствии. Он твёрдой рукой вёл к «восстановлению порядка и прочного правового уклада, соответствующего русскому национальному самосознанию». Русский премьер-министр в своих реформах стремился пробудить русский национальный дух, опираясь на «многовековую связь русского государства с православной Церковью. Приверженность к русским историческим началам – противовес беспочвенному социализму… Русское государство развивалось из собственных корней, и нельзя к нашему русскому стволу прикреплять чужестранный цветок… Наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать силу в русских национальных началах – в развитии земщины и в развитии самоуправления. В создании на низах крепких людей земли, которые были бы связаны с государственной властью. Низов – более 100 миллионов, и в них вся сила страны… Народы иногда забывают о своих национальных задачах, но такие народы гибнут… Когда укрепится русское государственное самосознание… когда будут здоровы и крепки корни русского государства, – слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед всем миром».
Столыпин сознавал роковой исторический выбор, перед которым встала Россия: «Правительство должно было или дать дорогу революции, забыв, что власть есть хранительница целостности русского народа, или – отстоять, что было ей вверено. Я заявляю, что скамьи правительства – это не скамьи подсудимых. За наши действия в эту историческую минуту мы дадим ответ перед историей, как и вы. Правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение неустройств, злоупотреблений. Но если нападки рассчитаны вызвать у правительства паралич воли и сведены к “руки вверх!” – правительство с полным спокойствием и сознанием правоты может ответить: “не запугаете!”… Надеюсь не на себя, а на собирательную силу духа, которая уже не раз шла из Москвы, спасая Россию… Противники государственности хотят освободиться от исторического прошлого России. Нам предлагают среди других сильных и крепких народов превратить Россию в развалины – чтобы на этих развалинах строить неведомое нам отечество… Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».
Необходимая в годы кровавого разгула жёсткость государственного деятеля мотивировалась религиозно-патриотически. Столыпин давал достойный ответ на нападки в Государственной думе: «Мы слышали тут, что у правительства руки в крови, что для России стыд и позор – военно-полевые суды. Но государство, находясь в опасности, обязано принимать исключительные законы, чтоб оградить себя от распада. Этот принцип – в природе человека и в природе государства. Когда человек болен, его лечат ядом. Когда на вас нападает убийца, вы его убиваете. Когда государственный организм потрясен до корней, правительство может приостановить течение закона и все нормы права. Бывают роковые моменты в жизни государства, когда надлежит выбрать между целостью теорий и целостью отечества. Такие временные меры не могут стать постоянными. Но и кровавому бреду террора нельзя дать естественный ход, а противопоставить силу. Россия сумеет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных хирургов. Страна ждёт не доказательства слабости, но доказательства веры в неё. Мы хотим и от вас услышать слово умиротворения кровавому безумию».
Борьба с революционным террором для Столыпина означала расчистку поля для оздоровительных реформ. «До сих пор почему-то: реформы – означали ослабление и даже гибель власти, а суровые меры порядка означали отказ от преобразований. Но Столыпин ясно видел совмещенье того и другого… Он видел путь и брался: даже из этого малоумного виттевского манифеста вывести Россию на твердую дорогу, спасти и ту неустойчивую конституцию, которую сляпали в метаньях… Он боролся с революцией как государственный человек, а не как глава полиции» (А.И. Солженицын). Столыпин был убежден, что «обращать всё творчество правительства на полицейские мероприятия – признание бессилия правящего слоя». Современный ученый Святослав Рыбас реалистически оценивает столыпинские методы борьбы с революцией: «Премьер стремился не только подавить революцию чисто полицейскими методами, а вообще убрать её с российской сцены путем реформ, которые разрешали бы революционную ситуацию эволюционным путём».
На чём основывался и куда стремился повести Россию царский премьер-министр? «Русское государство росло и развивалось из своих собственных русских корней, и вместе с ним видоизменялась и верховная царская власть… Манифестом 17 октября 1905 года с высоты престола было предуказано развитие чисто русского, отвечающего и народному духу, и историческим преданиям государственного устройства… Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России… До моего губернаторства в Саратове я долго жил в Западном крае. Там я имел возможность лично убедиться во всех преимуществах крестьянского хуторского хозяйства. Меня поражал самый вид этих свободных хлебопашцев, бодрых и уверенных в себе… Прежде всего, надлежит создать гражданина, крестьянина – собственника, мелкого землевладельца… сперва гражданина, а потом гражданственность, а у нас обыкновенно проповедуют наоборот… Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он остается рабом, и никакой писаный закон не дает ему блага гражданской свободы… Нельзя укреплять больное тело, питая его вырезанными из него самого кусками мяса; надо создать прилив питательных соков к больному месту, и тогда весь организм осилит болезнь; все части государства должны прийти на помощь слабейшей – в этом оправдание государства как социального целого… Мелкий земельный собственник, несомненно, явится ядром будущей земной единицы. Вот тогда только писаная свобода претворится в свободу настоящую, которая, конечно, слагается из гражданских вольностей и чувства государственности и патриотизма» (П.А. Столыпин).
Какие партийные «измы» и прожекты установления свобод могут сравниться с реальными проектами? Сочетание гражданских вольностей и чувства государственности и патриотизма являет взыскуемую гармонию свободы и ответственности. Столыпин-реформатор был оптимистом и верил в исторические возможности России, Столыпин-политик трезво оценивал ситуацию: «После горечи перенесённых испытаний Россия, естественно, не может не быть недовольной. Она недовольна не только правительством, но и Государственной думой и Государственным советом. Недовольна правыми партиями и левыми партиями. Недовольство это пройдет, когда выйдет из смутных очертаний, когда образуется и укрепится русское государственное самосознание, когда Россия почувствует себя опять Россией».
Ленин – открытый враг России – относился к реформам Столыпина с сатанинской злобой, ибо сознавал, насколько они опасны для революции: «После “решения” аграрного вопроса в столыпинском духе никакой иной революции, способной изменить серьезно экономические условия жизни крестьянских масс, быть не может».
Эпохальные реформы Столыпина почти никто не поддерживал в обществе и в чиновничестве. Будучи убежденным монархистом, Столыпин считал необходимым развивать институты народного представительства и стремился привлечь к управлению государством умеренную часть оппозиции. В течение 1906–1907 годов он три раза предлагал А.И. Гучкову, Д.Н. Шипову, Н.Н. Львову, М.А. Маклакову, М.В. Челнокову, П.Б. Струве, С.Н. Булгакову войти в правительство, но кадеты были озабочены сохранением собственной революционной репутации и отказывались разделить власть. «Он врезался неизъяснимо чужеродно: слишком националист для октябристов, да и слишком октябрист для националистов; реакционер для всех левых и почти кадет для истинно правых. Его меры были слишком реакционны для разрушительных и слишком разрушительны для реакционных» (А.И. Солженицын).
Не только либеральное общество, но и большинство крестьян в ответ на постепенные преобразования нетерпеливо требовало всей помещичьей земли – и даром. Поместное дворянство сопротивлялось развивающемуся капитализму, который вытеснял дворянский уклад. Промышленники требовали более радикальных действий правительства. Были недовольны и правые, и левые, то есть большинство депутатов Государственной думы и членов Государственного совета. В оппозиции к премьер-министру была и семья государя. В ответе на огульную критику властителя дум Льва Толстого Столыпин так оценивал своё положение: «Я про себя скромного мнения. Меня вынесла наверх волна событий – вероятно, на один миг! Я хочу всё же этот миг использовать по мере моих сил, пониманий и чувств на благо людей и моей родины, которую люблю, как любили её в старину. Как же я буду делать не то, что думаю и сознаю добром? А Вы мне пишете, что я иду по дороге злых дел, дурной славы и, главное, греха. Поверьте, что, ощущая часто возможность близкой смерти, нельзя не задумываться над этими вопросами, и путь мой кажется мне прямым путём». В одиноком стоянии за веру и Россию Столыпин пророчески провидел: «Мы строим леса для строительства, противники указывают на них как на безобразное здание и яростно рубят их основание. И леса эти неминуемо рухнут и, может быть, задавят нас под своими развалинами, – но пусть, пусть это случится тогда, когда уже будет выступать в главных очертаниях здание обновленной свободной России!»
Революционеры не могли допустить процветания России, реформы были оборваны убийством (после девяти покушений) премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина. В правящем слое одержали верх консервативные силы, отсутствие государственной воли у которых предопределило крах Российской империи.
Таким образом, столетнее духовное разложение привело российское общество неподготовленным к историческим испытаниям начала ХХ века. Естественное разномыслие обратилось в смертельную борьбу идей, страна сорвалась в очередной раскол: взаимное отчуждение общества и власти, общества и народа, затем – власти и народа. Левым радикалам противостояли крайне правые. Государственная власть не смогла обрести общественной опоры. Русская левая интенсивно разрушала Россию, русская правая отвечала судорожными попытками реакции, усугублявшими разрушение. Прогрессивный центр был во власти социальной маниловщины. «То, что интеллигенция говорила простому народу, будило в нём не совесть, а бессовестность; не патриотическое единение, а дух раздора; не правосознание, а дух произвола; не чувство долга, а чувство жадности. И могло ли быть иначе, когда у интеллигенции не было религиозного восприятия Родины, не было национальной идеи, не было государственного смысла и воли» (И.А. Ильин). Интеллигенция сеяла и взращивала то, что проросло в большевизме. «Буря, пусть сильнее грянет буря!» – заклинал пролетарский писатель Максим Горький. И изысканный Александр Блок вторил призывами «слушать музыку революции». Попытка возрождения исторического национального самосознания, предпринятая авторами «Вех», была отвергнута со всех сторон. Путь царский, без крайностей, с просветленным и созидательным патриотизмом, путь, органичный для России, был затоптан радикалами и утопистами всех мастей. Как писал Иван Солоневич, «коммунистическая революция в России является логическим результатом оторванности интеллигенции от народа, неумения интеллигенции найти с ним общий язык и общие интересы, нежелания интеллигенции рассматривать самое себя как слой, подчиненный основным линиям развития русской истории, а не как кооператив изобретателей, наперебой предлагающих русскому народу украденные у нерусской философии патенты полного переустройства и перевоспитания тысячелетней государственности».
Идейное помутнение в той или иной степени поражало все сословия в России. Одних оно превратило в маньяков революционных потрясений, других лишило воли к сопротивлению и способности реалистично мыслить, третьих направило на поиски исторических миражей. Правящие сословия – аристократия, дворянство, бюрократия – проявляли слепой эгоистический консерватизм. Витте описывал нравы придворного окружения: «сплетение трусости, слепости, коварства и глупости». Да и о самой монархии писал человек, который долгие годы служил ей: «Когда громкие фразы, честность и благородство существуют только напоказ, так сказать, для царских выходов и приемов, а внутри души лежит мелкое коварство, ребяческая хитрость, пугливая лживость, а в верхнем этаже не буря, даже не ветер, а сквозные ветерочки, которые обыкновенно в хороших домах плотно припираются, то, конечно, кроме развала ожидать нельзя от неограниченного самодержавного правления» (С.Ю. Витте).
Монархия не избежала общего духовного разложения, которое радикально усиливает обыкновенные недостатки и пороки власти. Слабохарактерность и безволие императора превращались в ведущий политико-бюрократический принцип. Витте приводит характерный случай: государь спросил мнение обер-прокурора Синода Константина Победоносцева о Плеве и Сипягине, на что Победоносцев ответил, что Плеве – подлец, а Сипягин – дурак. Царь сказал Витте, что он согласен с Победоносцевым, после чего Сипягин был назначен министром внутренних дел. Во многом монархическое правление переставало быть таковым. Ещё в 1900 году князь Павел Трубецкой писал: «Существует самодержавие полиции, генерал-губернаторов и министров. Самодержавия царя в России не существует, так как ему известно только то, что доходит до него сквозь сложную систему “фильтров”, и, таким образом, царь-самодержец из-за незнания подлинного положения в своей стране ограничен в реальном осуществлении своей власти».
Так С.Ю. Витте характеризовал правых, которые должны были быть опорой трону: «Они ни по приемам своим, ни по лозунгам (цель оправдывает средства) не отличаются от крайних революционеров слева, они отличаются от них только тем, что революционеры слева – люди, сбившиеся с пути, но принципиально большей частью люди честные, истинные герои, за ложные идеи жертвующие всем и своей жизнью, а черносотенцы преследуют в громадном большинстве случаев цели эгоистические, самые низкие, цели желудочные и карманные. Это типы лобазников и убийц из-за угла. Они готовы совершать убийства так же как и революционные левые, но последние большей частью сами идут на этот своего рода спорт, а черносотенцы нанимают убийц; их армия – это хулиганы самого низкого разряда».
В низовых сословиях было слабым чувство государственной солидарности, в крестьянстве накапливалась озлобленность. Городской пролетариат – молодой социальный слой, потерявший крестьянские корни и не обретший нового жизненного уклада, оказался беззащитным перед апологией беспочвенности и безукладья. Властителями умов целенаправленно разлагалось мировоззрение крестьянства. В 1913 году журнал «Нива» писал о последствиях разрушения традиционных жизненных устоев: «Несомненно, во всероссийском разливе хулиганства, быстро затопляющего мутными, грязными волнами и наши столицы, и тихие деревни, приходится видеть начало какого-то болезненного перерождения русской народной души, глубокий разрушительный процесс, охватывающий всю национальную психику. Великий полуторастамиллионный народ, живший целые столетия определённым строем религиозно-политических понятий и верований, как бы усомнился в своих богах, изверился в своих верованиях и остался без всякого духовного устоя, без всякой нравственной опоры. Прежние морально-религиозные устои, на которых держалась и личная, и гражданская жизнь, чем-то подорваны… Широкий и бурный разлив хулиганства служит внешним показателем внутреннего кризиса народной души».
Два века – со времен Петра I – рабства и муштры, насаждения стандартов чуждой культуры приучили низовые сословия смотреть на образованные и господствующие слои как на иноземных завоевателей и более того: «Между нами и нашим народом – иная рознь. Мы для него – не грабители, как свой брат деревенский кулак; мы для него – даже не просто чужие, как турок или француз; он видит наше человеческое и именно русское обличие, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно, вероятно, с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои. Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом – бояться мы его должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной» (М.О. Гершензон). Разложение духовных устоев и растущая пропасть между сословиями подготавливали атмосферу революции и гражданской войны. «Так заканчивался двухсотлетний отечественный процесс, по которому всю Россию начал выражать город, насильственно построенный петровской палкой и итальянскими архитекторами на северных болотах» (А.И. Солженицын).
Роковую роль в грядущей катастрофе сыграли Русско-японская война и война с Германией, основной причиной которых было не столкновение жизненных интересов государств и даже не борьба эгоистических интересов высших сословий. Идеологическая зашоренность правящего класса страны, не позволявшая адекватно осознавать реальную геополитическую ситуацию и эффективно реагировать на исторические вызовы, ввергала страну в утопические авантюры. Экспансия России в Маньчжурии и нацеленность на Корею не соответствовали жизненным интересам страны, но были выгодны узкой, влиятельной при дворе политико-экономической группе. Сыграли роковую роль и распространенные в правящем слое идейные мании и геополитические утопии. Министр внутренних дел Плеве убеждал государя, что внутреннее положение в стране может поправить «маленькая победоносная война». Наместник на Дальнем Востоке генерал-адъютант Алексеев: «Корейскому полуострову суждено со временем стать достоянием России… Туда нас толкают те же неудержимые стихийные силы, которые постепенно расширяли пределы России от Урала до берегов Восточного Океана, заставляя нас мало-помалу распространять наши владения или наш протекторат на всю Среднюю Азию и наконец толкнули нас в Маньжурию… Вооружённое столкновение с Японией… хотя и будет великим бедствием для России, должно быть признано неизбежным. Можно отдалить его, но не устранить. Оно логически вытекает из несовместимости тех великих исторических задач, которые принадлежат России на берегах Тихого океана, с честолюбием Японии».
Идейная мания принуждает квалифицировать как честолюбие опасения Японии о захвате близких к ней территорий, обрекает страну на великие бедствия ради мифических великих исторических задач. Увеличение территории страны не всегда выгодно народу – государствообразователю и государству в целом, поэтому Александр I уступил США Русскую Калифорнию, а Александр II – Аляску. Александр III говорил, что не отдаст ни одного русского солдата за Константинополь. Участие России в разделении территорий Китая приговаривало её к столкновению с быстро растущим дальневосточным соперником – Японией, а также обостряло отношения с мировыми державами – США, Англией, Германией. Николай II не заимствовал миротворческий курс своего отца и не внял благоразумным голосам в российской элите, которые призывали к мирному согласованию геополитических интересов с Японией. Более того, русский император поддался наущениям своего кузена, германского императора Вильгельма II, который стремился отвлечь внимание России от европейских проблем и перенацелить её на борьбу с «жёлтой опасностью».
Антон Деникин, участвовавший в Русско-японской войне, так характеризовал российскую дальневосточную политику: «Россия, недавно только вступавшаяся за неприкосновенность “дружественного” Китая, теперь сама завладела Квантунским полуостровом, обратив Порт-Артур в крепость. Акт этот не имеет оправдания. Такое выдвижение России вызвало целую бурю в Японии и неудовольствие Англии и Америки, боявшихся потерять маньчжурский рынок. Китай, не выступая активно, занял враждебное положение в отношении России». Захват Россией Квантунской области и Порт-Артура («Небывалое коварство… Сказочная для конца XIX в. авантюра в Корее» – С.Ю. Витте) не мог не привести к войне с отмобилизованной Японией. Россия оказалась неподготовленной к ненужной для неё войне, вызвала противостояние крупных держав и с огромными жертвами проиграла её, что резко обострило внутриполитическую ситуацию и привело к Первой русской революции.
Бессмысленная, кровопролитная война обернулась усугублением всех проблем России. Война, «начатая без ясной причины, чужая, далекая и позорно-неудачная, настолько чужая и настолько позорная, что оскорбления от неё уже перешли меру, стало даже приятно позориться и дальше и ждать поражений, чтобы в них крахнуло самодержавие и должно было бы пойти на внутренние уступки. В эти месяцы родилось слово “режим” вместо “государственный строй”, как нечто сплетенное из палачей, карьеристов и воров… В обществе не было никакого страха перед властью (да теперь-то хорошо видно, что и нечего было им бояться), на улицах произносились публичные речи против правительства и считалось, что террористы – творят народное дело» (А.И. Солженицын). Значительная часть русского общества сочувствовала в этой войне противнику. Во время войны и после неё резко усилились сепаратистские настроения в национальных окраинах России. В итоге войны Россия выпадает из мировой хозяйственной системы. Война продемонстрировала внутреннюю и внешнюю слабость России.
В итоге, «к концу сентября 1905 г. революция уже совсем, если можно так выразиться, вошла в свои права – права захватные. Она произошла оттого, что правительство долгое время игнорировало потребности населения, а затем, когда увидело, что смута выходит из своих щелей наружу, вздумало усилить свой престиж и свою силу “маленькой победоносной войной” (выражение Плеве). Таким образом, правительство втянуло Россию в ужасную, самую большую, которую она когда-либо вела, войну. Война оказалась для России позорной во всех отношениях, и режим, под которым жила Россия, оказался совсем несостоятельным – гнилым. Все смутились и затем – добрая половина русских людей спятила с ума» (С.Ю. Витте). Это писал не революционный публицист, а руководитель русского правительства.
По итогам Русско-японской войны напрашивался союз России с поддержавшей её Германией против Англии, которая была союзницей Японии. Но это означало бы конфронтацию с Францией, которая недальновидной политикой была превращена в главного кредитора России. Перед войной с Германией лидер партии октябристов А.И. Гучков писал о трагических последствиях безумных решений власти: «Общественные симпатии и доверие, бережно накопленные вокруг власти во времена Столыпина, вмиг отхлынули от неё. Власть не способна внушить даже и страха. Даже то злое, что она творит, – часто без разума, рефлекторными движениями. Правительственный курс ведёт нас к неизбежной тяжелой катастрофе. Но ошибутся те, кто рассчитывает, что на развалинах повергнутого строя воцарится порядок. В тех стихиях я не вижу устойчивых элементов. Не рискуем ли мы попасть в полосу длительной анархии, распада государства? Не переживём ли мы опять Смутное время, но в более опасной внешней обстановке?»
П.А. Столыпин как никто понимал необходимость мира для России. Весной 1909 года, после неожиданной для российского министерства иностранных дел аннексии Австро-Венгрией территории Боснии и Герцеговины, Столыпин удержал Россию от ввязывания в гибельную войну: «Пока я у власти, я сделаю все, что в силах человеческих, чтобы не допустить Россию до войны, пока не осуществлена целиком программа, дающая ей внутреннее оздоровление». И здесь он выступал наперекор действиям тупоголовых «патриотов».
В отношениях с Германией было проигнорировано завещание П.А. Столыпина о том, что Россия не нуждается в расширении территорий, ей необходимо привести в порядок государственное управление и повышать благосостояние населения, для чего необходим длительный международный мир. В начале XX века у России не было столкновений геополитических интересов с Германией, в которой правил родственный императорский дом. Однако мощные мировые силы, заинтересованные в крушении процветающей России, толкали её к войне. Внутри страны ложно понимаемые союзнические обязательства и утопические мессианские настроения (панславизм, «освобождение» Царьграда, выход к Босфору С.Ю. Витте писал, что ещё в 1896 году проект захвата Босфора был утверждён Николаем II, началу его реализации помешали, судя по всему, французские дипломаты. ) в обществе и правящей элите складывались в атмосферу экзальтированного лжепатриотизма и германофобии, в ней заглушались здравые голоса. И правящий слой, и оппозиция грезили: «Константинополь и достаточная часть примыкающих берегов, Hinterland… Ключи от Босфора и Дарданелл, Олегов щит на вратах Царьграда – вот заветные мечты русского народа во все времена его бытия» (П.Н. Милюков).
«“Победить всего Исмаила и овладеть Седьмихолмым” Из надписи, высеченной на гробе святого императора Константина. – это и стало для русской истории “манией, подобной той, что владела католиками во время крестовых походов на Иерусалим”. Вопреки тому, что сама география континента открывала для России естественную область расширения – от европейских Вислы и Дуная до Тихого океана и от Северного Ледовитого океана до Индийского – при том, что Средиземноморье – зона Атлантики и атлантической цивилизации. Иной, чужой и чуждой» (В.И. Карпец).
За полгода до начала войны бывший министр внутренних дел Пётр Дурново в записке императору предсказывал неизбежные бедствия в случае войны с Германией: «Главная тяжесть войны выпадет на нашу долю. Роль тарана, пробивающего толщу немецкой обороны, достанется нам… Война для нас чревата огромными трудностями и не может оказаться триумфальным вхождением в Берлин. Неизбежны и военные неудачи… те или иные недочеты в нашем снабжении… При исключительной нервности нашего общества этим обстоятельствам будет придано преувеличенное значение… Начнется с того, что все неудачи будут приписываться правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная кампания против него… В стране начнутся революционные выступления… Армия, лишившаяся наиболее надежного кадрового состава, охваченная, в большей части стихийно, общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка… Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается предвидению». Министр взывал к Николаю II: «Государь! Единственным призом в этой войне может быть Галиция… только безумец может хотеть присоединить Галицию. Кто присоединит Галицию, потеряет империю» (П.Н. Дурново). (До сего дня Галиция является источником геополитической нестабильности и радикализации российско-украинских отношений.) Духовное помутнение не позволило власти осознать национальные интересы, а обществу проявить подлинный патриотизм.
Иллюзия национального единства быстро развеялась, трагические тяготы войны усугубил раскол, взнуздал мании и паранойи в обществе: «Так далеко вклинились между российским обществом и российской властью – раздор, недоверие, подозрение, хитрость, в таком взаимном разладе они вступили в войну, что даже оба теперь, желая победы, подозревали другого в пораженчестве» (А.И. Солженицын). Общество наполнялось демонией разрушения, а власть теряла волю к защите государственных интересов: «Власть, как будто признавая худшее, что о ней думали, безропотно отдавала новые и новые поля деятельности в воюющей стране – самозваным комитетам, не подчиняя их никакому единому руководству. Общественные организации настаивали на своём бескорыстии и своей талантливости – и не было голоса, кто посмел бы усумниться… Всё перемешалось: члены этих комитетов получили свободный доступ в военное министерство, в отделы заказов и заготовок, от них не стало там секретов, и все распределение заказов между заводами стало зависеть теперь от них, возбуждая к ним заискивание производителей, а их патриотическое посредничество оплачивая за казенный же счёт процентом от многомиллионных военных заказов, – для воюющей страны достаточно безумная обстановка» (А.И. Солженицын). Уступая общественному давлению, правительство разрешает учредить особые совещания, которые претендуют на руководство военным снабжением и которые легализовали самоорганизацию и разрушительную деятельность революционных сил: «Земский и Городской союзы являются колоссальной правительственной ошибкой. Нельзя было допускать подобные организации без устава и определения границ их деятельности. Их личные состав и конструкции не предусмотрены законом и правительству не известны. В действительности они являются средоточием уклоняющихся от фронта, оппозиционных элементов и разных господ с политическим прошлым. Эти союзы произвели фактическое, захватное расширение полномочий и задач» (А.Г. Щербатов).
Шизофренический раскол в национальном сознании сказывался во всем и во всех слоях общества, этот «субъективный» фактор сыграл решающую разрушительную роль. Обильные материалы, свидетельствующие о духовном разложении в стране, приводит А.И. Солженицын в романе «Красное колесо». Командование армии действовало как единственная властная инстанция в стране, порождая новые катастрофические проблемы. Фронт перемалывал лучшую часть народа, а в армию сверх необходимого призываются миллионы запасников, которые оказываются брошенными на произвол между фронтом и тылом. «Обилие бездельников в серых шинелях, разгуливающих по городам, селам, железным дорогам и по всему лицу земли русской… Зачем изымать из населения последнюю рабочую силу, когда стоит только прибрать к рукам и рассадить по окопам всю эту толпу гуляк?» (А.В. Кривошеин). «В Москве – 30 тысяч выздоравливающих солдат, это буйная вольница, не признающая дисциплины, скандалящая, отбивающая арестованных в стычках с городовыми. В случае беспорядков вся эта орда станет на сторону толпы» (А.Г. Щербатов). Бездумно брошенные в столицы десятки тысяч запасных и выздоравливающих солдат сыграют разрушительную роль в семнадцатом году. Армейское командование инициирует массовое беженство гражданского населения из оставляемых областей вглубь России: «Из всех тяжких последствий войны – это самое неожиданное, грозное и непоправимое. И что ужаснее всего – оно не вызвано действительной необходимостью или народным порывом, а придумано мудрыми стратегами для устрашения неприятеля. По всей России расходятся проклятия, болезни, горе и бедность. Голодные и оборванные повсюду вселяют панику. Идут они сплошной стеною, топчут хлеба, портят луга, леса, за ними остаётся чуть ли не пустыня. Даже глубокий тыл нашей армии лишен последних запасов. Я думаю, немцы не без удовольствия наблюдают результаты и освобождаются от забот о населении. Устраиваемое Ставкою второе великое переселение народов влечёт Россию к революции и к гибели» (А.В. Кривошеин).
Военные власти брали под свой контроль гражданские сферы и области тыла, что дезорганизовывало управление. Поблизости к фронту в действиях военного руководства тоже проявлялась какая-то маниакальность: «У населения отбирали запасы, расплачиваясь какими-то бонами. Штабы отступали как в безумии – не во временный отход, но так разоряя местность – сжигая посевы, постройки, убивая скот, угрожая оружием землевладельцам, – как будто никогда не надеясь вернуться. От генеральских распоряжений отступающие войска провожались проклятиями… А Ставка уже проектировала отодвинуть границы театра войны – границу своей сумбурной власти и правительственного безвластия – ещё вглубь страны, до линии Тверь – Тула» (А.И. Солженицын). Опять же, трезвые голоса протеста игнорируются: «Невозможно отдать центральные губернии на растерзание орде тыловых героев. Упразднение нормальной власти – на руку революции» (А.Г. Щербатов). Естественно, такого рода безумные действия властей усугубляют общее помрачение: «Людей охватывает какой-то массовый психоз, затмение всех чувств и разума» (А.В. Кривошеин).
Неуклюжие попытки командования свалить вину за военные неудачи и грандиозное отступление лета 1915 года на евреев приводят к ожесточенной реакции Запада и к отказу западных банков в необходимых финансовых кредитах. Роковое решение Николая II об отстранении великого князя Николая Николаевича и принятии на себя поста верховного главнокомандующего во многом мотивировано стремлением императора укрыться от невыносимого бремени верховной власти в понятной ему и родной для него армии: «Вот, он отодвинулся ото всех бурь и питается показными телеграммами. Ушел от центра власти и центра борьбы, и как это может сказаться на судьбе России? Разве на нём держалась Ставка? Разве без него мог функционировать правительственный Петроград?» (А.И. Солженицын). Правительство лишается его поддержки и защиты от разъяренного общества, бросается на произвол придворных интриг – от императрицы до Распутина. Но более всего «абсолютно неподходящий момент… Ставятся ребром судьбы России и всего мира… Ставится вопрос о судьбе династии, о самом троне, наносится удар монархической идее, в которой вся сила и будущность России! Народ ещё с Ходынки и японской кампании считает государя несчастливым, незадачливым. Напротив, великий князь – это лозунг, вокруг которого объединяются великие надежды» (А.В. Кривошеин).
Те, кого заботили судьбы страны, были единодушны: «Я жду от перемены Верховного Главнокомандования грозных последствий. Смена великого князя и вступление Государя императора явится уже не искрой, а целой свечою, брошенной в пороховой погреб. Революционная агитация работает не покладая рук, стараясь всячески подорвать остатки веры в коренные русские устои. И вдруг громом прокатится весть об устранении единственного лица, с которым связаны чаяния победы. О царе с первых дней царствования сложилось в народе убеждение, что его преследуют несчастья во всех начинаниях» (А.Д. Самарин). Даже лидер оппозиционной Думы взывает: «Государь! Вы являетесь символом и знаменем – и не имеете права допустить, чтобы на это священное знамя могла пасть какая-либо тень. Вы должны быть вне и выше органов власти, на обязанности которых лежит непосредственное отражение врага. Неужели вы добровольно отдадите вашу неприкосновенную особу на суд народа, – а это есть гибель России. Вы решаетесь сместить Верховного Главнокомандующего, в которого безгранично ещё верит русский народ. Народ не иначе объяснит ваш шаг, как внушенный окружающими вас немцами. В понятии народном явится сознание безнадежности положения и наступившего хаоса в управлении. Армия упадет духом, а внутри страны неизбежно вспыхнет революция и анархия, которые сметут все, что стоит на их пути» (М.В. Родзянко). Практически все видели, что грядёт революционная катастрофа, многие указывали на способы противодействия ей. Но какая-то роковая безысходность покрыла Россию: если к кому-нибудь возвращалось здравомыслие, то их голоса тонули в вакханалии безрассудства.
С уходом в Ставку Николай II оградился от ненавистного для него общества. У него были основания не любить лидеров зарвавшейся общественности и не доверять им, но бремя ответственности верховной власти требует возвыситься над личными неприятиями и поддержать любую возможность единения общества и власти в грозный момент: «Но – когда-то и к чему-то же надо было склонять самодержцу ухо, хотя бы в четверть наклона. Можно было представить, что в этой огромной стране есть думающие люди и кроме придворного окружения, что Россия более разномысленна, чем только гвардия и Царское Село? Эти беспокойные подданные рвались к стопам монарха не с кликами низвержения или военного поражения, но – войны до победного конца. Просила общественность – политических уступок, но можно было отпустить хоть царской ласки, хороших слов. Выйти и покивать светлыми очами. Всё это было у них неискренне? Ну что ж, на то ремесло правления. Нельзя отсекать пути доверия с обществом – все до последнего… всё же – смертельная рознь власти с обществом была болезнь России, и с этой болезнью нельзя было шагать гордо победно до конца. Любя Россию, надо было мириться с нею со всей и с каждой. И ещё не упущено было помириться. Но за десятками нерастворных дубовых дверей неуверенно затаился царь. Пребывающему долго в силе бывает опрометчиво незаметен приход слабости, даже и несколько их – включая последний… Но ещё со смертью Александра III умерла энергия династии и её способность говорить открытым, полным голосом» (А.И. Солженицын). Робость, подозрительность, безволие Николая II были усилены, а достоинства ослаблены атмосферой духовного разложения, проникающей через сословные перегородки и дубовые двери. В обществе были искренние монархисты, которые могли послужить опорой трону, но они подвергались шельмованию и оказались без поддержки верховной власти. «Им тяжко оттого, что они верны династии, которая потеряла верность сама себе, когда самодержец как бы околдован внутренним бессилием, им тяжко оттого, что они должны подпирать столп, который сам заколебался. Но – какой же путь показать, когда шатаются колонны принципов и качается свод династии? Самодержавие – без самодержца!.. Правые – рассеяны, растеряны, обессилены. Если уж и верные люди не нужны Государю?.. Если сама Верховная власть забыла о правых и покинула их?» (А.И. Солженицын).
Трихины, носящиеся в воздухе, многих лишали разума, способных сознавать происходящее поражали волю. «Перед громким самоуверенным голосом образованного общества лишь редкое стойкое правительство смеет упереться, подумать, решить самостоятельно. А русское правительство под укорами и настояниями общественности то уступало, то колебалось, то забирало уступки назад. Его воля была размыта, текла такой же жижей, как русские осенние грунтовые дороги» (А.И. Солженицын). Правительство было неспособно на волевые действия, если на что-то решалось – не получало поддержки у безвольной верховной власти: «Правительством овладела и высшая нервность, и чувство бессилия. Министры горячо и подолгу обсуждали все проблемы, и обрывали обсуждения, и не решались постановить, и сами всё более видели, что от их обсуждений ничего не зависит. У них не было мер и методов воздействия, и даже при крайнем возмущении они не находили, как заставить, а только – поговорить, предупредить, внушить. Они ни в чём не проявляли решительности, категорического мнения, противостояния. Не только отобрана была от них четвертая часть страны в управление генералов, но и в остальной её части они не имели ни в ком опоры, ощущали себя как бы висящими в воздухе. По рождению правительства и подчинению его естественная поддержка могла быть от монарха – но тот почти не ставил их ни во что, устранился от них и не прислушивался к их мнениям. Земский и Городской Союзы распоряжались по всей стране, не спрашивая правительства. Дума и общество всё ярее действовали захватно, игнорировали правительство начисто – а в законодательной деятельности Дума только тормозила все, так что ни одного серьезного закона уже нельзя было провести, тем более спешного» (А.И. Солженицын). По меткому выражению И.Г. Щегловитова, «паралитики власти что-то слабо боролись с эпилептиками революции».
Воюющие «демократические» страны приостановили полноценную парламентскую деятельность (функционировали только комиссии законодательных палат), а в монархической России с думских трибун во время кровопролитной войны впрямую призывали смести правительство: «Та катастрофа, которая совершается, может быть предотвращена только немедленной сменой исполнительной власти… Мы должны сказать тем, кто сейчас не по праву держит в своих руках флаг: Уйдите, вы губите страну! А мы хотим её спасти. Дайте нам управлять страной, иначе она погибнет!» (А.Ф. Керенский). (Известно, как вскоре распорядятся властью спасители страны.) «Можно представить, что в западных парламентах и самая крайняя оппозиция всё-таки чувствует на себе тяготение государственного и национального долга: участвовать в чем-то же и конструктивном, искать какие-то пути государственного устроения даже и при неприятном для себя правительстве. Но российские социал-демократы, трудовики, да и многие кадеты, совершенно свободны от сознания, что государство есть организм с повседневным сложным существованием, и как ни меняй политическую систему, а день ото дня живущему в государстве народу всё же требуется естественно существовать. Все они, и чем левее – тем едче, посвящают себя только поношению этого государства и этого правительства» (А.И. Солженицын).
Страна вела смертельную войну, народ нёс миллионные потери, власть, худо-бедно, решала насущные проблемы, но общество в столицах будто на другой планете: «Множество красиво одетого и явно праздного народа, не с фронта, отдыхающего – но свободно веселящегося. Переполненные кафе, театральные афиши – все о сомнительных “пикантных фарсах” заливистые светы кинематографов… – какой нездоровый блеск, и какая поспешная нервность лихачей – и всё это одновременно с нашими сырыми тёмными окопами? Слишком много увеселений в городе, неприятно. Танцуют на могилах» (А.И. Солженицын).
Нарастающий раскол и хаос создавали оптимальные условия для разрушительной деятельности радикального крыла идеомании. В воюющих «демократических» странах печать была под контролем властей. В России же во время войны отсутствовала гражданская цензура, военная действовала только на театре военных действий и ограничивалась узкой «профессиональной» тематикой – запрещала материалы, которые могли служить осведомлению противника. Правительственные чиновники в большинстве своём адекватно оценивали ситуацию, но бессильны что-то изменить: «Наши союзники – в ужасе от разнузданности, какая царит в русской печати» (С.Д. Сазонов). «Наши газеты совсем взбесились. Всё направлено к колебанию авторитета правительственной власти. Это не свобода слова, а черт знает что такое. Даже в 1905-м они себе не позволяли таких безобразных выходок. Его Величество указал тогда, что в революционное время нельзя к злоупотреблениям печати руководствоваться только законом, допускать безнаказанное вливание в народ отравы. Военные цензоры не могут оставаться равнодушны к газетам, если те создают смуту» (И.Л. Горемыкин). Слова премьер-министра не возымели никаких последствий, пресса превращается в эффективный канал вливания в народ отравы: «Наша печать переходит все границы даже простых приличий. Масса статей совершенно недопустимого содержания и тона. До сих пор только московские газеты, но за последние дни и петроградские будто с цепи сорвались. Сплошная брань, возбуждение общественного мнения против власти, распускание сенсационных ложных известий. Страну революционизируют на глазах у всех – и никто не хочет вмешаться… Распространение революционных настроений полезнее врагу всяких других прегрешений печати» (А.В. Кривошеин).
Ни правящий слой, ни власть не были способны идейно противостоять целенаправленной революционной пропаганде, ибо сами были подвержены либеральным формам идеомании. «На революционную агитацию десятилетиями смотрело правительство Николая II как на неизбежно текущее, необоримое, да уже и привычное зло. Никогда в эти десятилетия правительство не задалось создать свою противоположную агитацию в народе, разъяснение и внедрение сильных мыслей в защиту строя. Да не только рабочим, да не только скученным тёмным солдатам – крестьянам правительство, через никогда не созданный пропагандный аппарат, никогда не пыталось ничего разъяснить, – но даже весь офицерский корпус зачем-то оберегало девственно-невежественным в государственном мышлении. Вопреки шумным обвинениям либеральной общественности правительство крайне вяло поддерживало и правые организации, и правые газеты, – и такие рыцари монархии, как Лев Тихомиров, захиревали в безвестности и бессилии. И не вырастали другие» (А.И. Солженицын).
Невиданная в мировой истории по масштабам и жертвам война сама по себе не могла не обострить все проблемы огромной страны, находившейся на переходе к новому жизненному укладу. Впервые в истории были вооружены многие миллионы жителей, впервые столь масштабная война шла столь долго и обрекала миллионы людей на кошмар и разложение невыносимых условий фронтов. Ко всему этому добавлялось целенаправленное духовное разложение, внедряемое образованными слоями. Война была проиграна задолго до её окончания, несмотря на огромные ресурсы России, ибо в душах людей рухнули основополагающие духовные устои: «Вся эта длинная цепь отдельных гибельных действий, из которых слагалось постепенное, быстро нарастающее крушение русской государственности, несостоятельность большинства правителей, неуклонность порядка, в котором лучшие люди вытеснялись всё худшими, и роковая слепота общественного мнения, всё время поддерживающего худшее против лучшего, – всё это лишь внешние симптомы более общей, более глубоко коренившейся болезни национального организма» (С.Л. Франк).
Так духи злобы разрушали традиционные формы жизни, органичный уклад души и быта, разлагали религиозное и нравственное сознание, чувство гражданского долга и ответственности, парализовали возможное сопротивление. Сознание общества пленяли болотные огни: духи позитивизма и рационализма, атеизма и материализма, коммунизма и социализма. «Революционный социализм, в своей чистой, ничем не смягченной и не нейтрализованной эссенции, оказался для нас ядом, который, будучи впитан народным организмом, не способен выделить из себя соответствующих противоядий и привел к смертельному заболеванию, к гангренозному разложению мозга и сердца русского государства… Разрушительность социализма в последнем счёте обусловлена его материализмом – отрицанием в нём единственных подлинно зиждительных и объединяющих сил общественности – именно органических внутренне духовных сил общественного бытия. Интернационализм – отрицание и осмеяние организующей духовной силы национальности и национальной государственности, отрицание самой идеи права как начала сверхклассовой и сверхиндивидуальной справедливости и объективности в общественных отношениях, непонимание зависимости материального и морального прогресса от внутренней духовной годности человека, от его культурной воспитанности в личной и общественной жизни, механический и атомистический взгляд на общество как на арену чисто внешнего столкновения разъединяющих, эгоистических сил – таковы главные из отрицательных и разлагающих мотивов этого материализма» (С.Л. Франк).