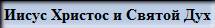77 Человеческое (лат.).
78 Из Стихиры на Господи воззвах, служба на Рождество Христову
78 Из Стихиры на Господи воззвах, служба на Рождество Христову
79 "Человеческое", "божественное" (лат.).
80 См. Ин. 9:1—38.
81По-славянски: "...распныйся же Христе Боже... , един Сын Святыя Троицы...".
81По-славянски: "...распныйся же Христе Боже... , един Сын Святыя Троицы...".
82 "О сектах" (лат.).
83 Agrapto — неописуемость; dokeo — считать, иметь мнение; aphthartos — нетленный, непортящийся (грен.).
84 Примерно 13—14 см.
84 Примерно 13—14 см.
85 "...единый имеющий бессмертие..." .
86 Ад (др.-евр.).
87 Славянский текст: "...мира мертвым суть прилична, Христос же нетления явися чужд".
87 Славянский текст: "...мира мертвым суть прилична, Христос же нетления явися чужд".
88. "perichōrēo" — перехожу (греч.); "circum" — круг, "incessio" — наступаю (лат.).
90 См. Ин. 1:3 Все чрез Него начало быть (синодальный перевод)
91От греч. "кеносис" — умаление, уничижение.
91От греч. "кеносис" — умаление, уничижение.
92 "Царю Небесный, ... прииди и вселися в ны, и очисти ны...".
93 Славянский текст: "Видехом Свет Истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, Нераздельней Троице покланяемся: Та бо нас спасла есть".
94 Славянский текст: "Егда снисшед языки слия, разделяше языки Вышний; егда же огненный языки раздаяше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа".
95 Имеется в виду 1 Кор. 9:24—27.
Иисус Христос и Святой Дух. Прот. Иоанн Мейендорф - 2.
12. Иисус Христос
Византийская христология всегда находилась под властью категорий мысли и терминологии великих споров V, VI и VII вв. о Личности и отождествлении Иисуса Христа. Как было показано в части первой, эти споры затрагивали как концептуальные проблемы, так и богословские основания жизни. По разумению восточных христиан все содержание христианской веры зависит от ответа на вопрос:
"Кто такой Иисус Христос?"
Пять вселенских соборов, издавших особые определения относительно связи между Божественной и человеческой природами во Христе, видятся иногда временем раскачивания маятника: от акцента на Божественности Христа в Эфесе (431 г.); к новому утверждению Его полной человечности в Халкидоне (451 г.); затем опять к Его Божественности вместе с принятием Кирилловой идеи теопасхизма в Константинополе (553 г.); за чем последовало новое осознание Его человеческой "энергии" или "воли", еще раз в Константинополе (680 г.) и Его человеческого свойства описуемости в противоиконоборческом определении Второго Никейского собора (787 г.). И все же в западной богословской литературе до сих пор часто встречается мнение о тайном монофизитстве византийской христологии; оно предлагается как объяснение недостатка среди восточных христиан интереса к человеку в его мирском или общественном творчестве. Мы надеемся, что предлагаемое ниже рассмотрение сможет несколько прояснить эти часто повторяющиеся вопросы.
1. Бог и человек
Утверждать, что Бог стал Человеком и что Его человечность обладает всеми чертами, присущими человеческой природе, значит понимать Воплощение как космическое событие. Человек был сотворен хозяином космоса и призван Творцом привлечь все творение к Богу. Его поражение в порученном ему деле стало космической катастрофой, исправить которую было под силу только Самому Творцу.
Более того, факт Воплощения подразумевает, что связь между Богом и человеком, отображенная библейской концепцией "образа и подобия", нерушима. Восстановление творения есть "новое творение", однако, пока дело касается человека, не устанавливается какого-либо нового образца; "новое творение" лишь восстанавливает человека в его исконной Божественной Славе среди творений и в его исконной ответственности за этот мир. Подтверждается, что человек воистину человек тогда, когда он участвует в жизни Бога; что он не автономен ни в отношении к Богу, ни по отношению к миру; что истинная человеческая жизнь никак не может быть "светской". Во Иисусе Христе Бог и человек суть едино в Нем, следовательно, Бог стал достижим не через превосхождение или удаление humanum 77, но через осуществление и проявление человечности в ее чистейшем и подлиннейшем образе.
Воплощение Логоса весьма последовательно рассматривалось византийскими богословами как событие, имеющее космическое значение. Космический масштаб Христа-События имеет необыкновенно положительное выражение в византийской гимнологии: "Каяждо бо от Тебе бывших тварей благодарение Тебе приносит: ангели пение, небеса звезду, волсви дары, пастырие чудо, земля вертеп, пустыня ясли: мы же Матерь Деву" 78 (1). Связь между творением и Воплощением постоянно подчеркивается в гимнах: "Человек отпал от Божественной и лучшей жизни; даже будучи соделанным по образу Божию, преступлением он всецело подпал порче и разрушению. Но ныне мудрый Творец строит его наново: да восславляется Он" (2). Подобным же образом гимнология Страстной Пятницы подчеркивает вовлеченность всего творения в смерть Христову: "Солнце на кресте висима узревшее мраком облагашеся, и земля страхом колебашеся..." (3).
Здесь поэтические образы отображают параллелизм между Быт. 1:2 и Ин. 1. Пришествие Христово есть Воплощение Логоса, "через Которого" все сделалось: это есть новое творение, но Творец — Тот же. В противоположность гностикам, проповедовавшим дуализм, различающий Бога Ветхого Завета и Отца Иисуса, патристическое Предание утверждает их абсолютную тождественность и, следовательно, существенную "благость" первоначального творения.
Христос-Событие является космическим событием потому, что Христос есть Логос — и, следовательно, в Боге Деятель творения, — и потому, что Он есть человек, поскольку человек есть "микрокосм". Грех человека погрузил творение в смерть и разрушение, но восстановление человека во Христе есть восстановление космоса в его первоначальной красоте. Тут опять-таки лучшим свидетелем является византийская гимнология:
Твоего Единороднаго Сына провидев духом плотское к человеком пришествие, Богоотец Давид издалеча к веселию созывает тварь, и пророчески взывает: "Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуются" (Пс. 88:13). На сию бо восшед гору, Спасе, со ученики Твоими, очерневшее Адамово естество, преображься, облистати паки сотворил еси..." (4).
Прославление человека, которое заодно является прославлением всего творения, может, разумеется, пониматься эсхатологически. В Личности Христовой, в сакраментальной реальности Его Тела и в жизни святых предчувствуется преображение всего космоса; но пришествие Его в силе все еще только грядет. Прославление уже стало живым опытом, доступным для всех христиан, особенно в Литургии. Лишь такой опыт в силах наделить целью и смыслом человеческую историю.
Космическая важность Воплощения подразумевается Халкидонским постановлением 451 г., которому хранит верность византийское богословие: Христос является "одной сущности с нами в Своей человечности, подобен нам во всем, кроме греха". Он — Бог и Человек, ибо "различие природ никак не утратилось вследствие их соединения; более того, свойства каждой природы сохранены". Последняя фраза Определения очевидно касается творческой, изобретательской, руководящей функции человека в космосе. Эта идея была развита в мыслях Максима Исповедника, например, когда он выступает против монофелитов за существование во Христе человеческой "воли", или "энергии", подчеркивая, что без этого подлинная человечность немыслима.
Если человечество Христа тождественно нашему во всем, кроме греха (при этом, конечно, невозможно классифицировать как "грех" любое человеческое "движение", "творчество" или всякий "динамизм"), приходится признать, что Христос, Который есть Человек в теле Своем, в душе Своей и в разуме Своем, был действительно исполнен всеми этими функциями истинной Человечности. Максим вполне понимал, что человеческая энергия, или воля Христова не была подавлена Его Божественной волей, но была согласована с последней. "Две естественные воли [Христовы] не противны одна другой, ... но человеческая воля следует [Божественной]" (5). Это согласованность humanum с divinum 79 во Христе есть, следовательно, не умаление человечности, но ее возвышение: "Христос восстанавливает природу в соответствие ей самой... Став Человеком, Он удержал Свою свободную волю в бесстрастии и мире с природой" (6). "Участие" в Боге — как мы показали, — есть сама природа человека, но не ее устранение или отмена. Вот ключ к восточнохристианскому пониманию отношения между Богом и человеком.
Во Христе союз этих двух природ ипостасей: они, согласно отцам Халкидона, "содействуют в одном Лице [prosopon] и одной Ипостаси". Противоречия, выросшие из Халкидонской формулы, вели к появлению дальнейших определений термина "ипостась". В то время как Халкидон настаивал на том, что Христос был един в Своей личной тождественности, этот Собор все же недостаточно прояснил смысл термина "ипостась", использованного для обозначения упомянутой тождественности и, к тому же, для обозначения Ипостаси предсуществующего Логоса.
Антихалкидонская оппозиция на Востоке так усердно возводила всю свою аргументацию вокруг этого обстоятельства, что византийская христология в эру Юстиниана приложила все силы к исключению такой интерпретации Халкидона, которая могла признать "prosopon, или ипостась", возникшую в Определении, всего лишь как "prosopon соединения" старой антиохийской школы, — то есть новую синтетическую реальность, возникающую из союза двух природ. Утверждалось же, напротив, следуя Кириллу Александрийскому, что уникальная ипостась Христова есть предсуществующая Ипостась Логоса, что является термином, используемым в христологии со смыслом, который придавало ему троичное богословие каппадокийских отцов: одна из трех вечных ипостасей Троицы "обрела плоть", оставаясь при этом в сущности Собой в Своей Божественности. Ипостась Христова, следовательно, предсуществует в Своей Божественности, но обрела человечность через Деву Марию.
Из этого основополагающего понятия следуют два важных вывода: а) нет никакой абсолютной соразмерности между Божественностью и человечностью во Христе, поскольку единственная в своем роде Ипостась только Божественна и потому что человеческая воля следует за Божественной. Именно "соразмерную" христологию отвергли как несторианскую в Эфесе (431 г.). Такая "несоразмерность" ортодоксальной христологии отображает ту самую мысль, которую так сильно подчеркивали Афанасий и Кирилл Александрийские: только Бог может спасти, тогда как человечность способна лишь сотрудничать со спасительными деяниями и волей Божией. Между тем мы уже обращали внимание, что в патристическом понимании человека "теоцентричность" есть природное свойство человечности; поэтому несоразмерность не мешает тому, что Христос был вполне Человеком и Его человечность была "деятельной".
б) Человеческая природа Христова не персонализирована в какой-либо отдельной человеческой ипостаси, — иначе говоря, понятие ипостаси не есть выражение природного существования, будь то в Боге, либо же в человеке, но это означает личное существование. Постхалкидонская христология постулирует, что Христос был вполне человеком и также что Он был индивидуумом, но та же христология отвергала несторианское мнение, что Он был человеческой ипостасью, или личностью. Вполне человеческая индивидуальная жизнь была во-существлена в Ипостась Логоса, не теряя ни единой из своих человеческих черт. Теория, связываемая с именем Аполлинария Лаодикийского, по которой Логос в Иисусе занял место, которое у остальных людей занято человеческой душой, систематически отвергалась византийскими богословами, поскольку из нее следовало, что человечность Христова была неполной. Знаменитая формулировка Кирилла, неверно приписываемая Афанасию, а, по сути дела, высказанная Аполлинарием, — "одна природа воплощенная Бога Слова" принималась лишь в халкидонском контексте. Божественная и человеческая природы никогда не смогут слиться, смешаться или стать взаимодополняющими друг друга, но во Христе они соединились в одну единственную Божественную Ипостась Логоса: Божественный образец совпал со своим человеческим образом.
Тот факт, что понятие ипостаси несводимо к концепциям "частной природы" или к понятию "индивидуальности", критически важен не только для христологии, но и для учения о Троице. Ипостась есть личный, "действующий" источник природной жизни; но сам по себе он не "природа" и не сама жизнь. В Ипостаси обе природы Христовы осуществляют соединение без слияния и взаимопревращения. Обе природы сохраняют свои природные характеристики; но, поскольку они разделяют одну и ту же общую ипостасную жизнь, имеет место "сообщение свойств", или perichoresis, позволяющее, к примеру, некоторым из человеческих поступков Христа — словам или жестам — иметь последствия, которые в силах вызвать один Бог. Земля, смоченная Его слюной, например, возвращает зрение слепому человеку 80.
Христос есть один [пишет Иоанн Дамаскин]. Следовательно, Слава, которая естественно происходит из Божественности, становится общей [для обеих природ] благодаря тождественности Ипостаси; а, через плоть, смирение также становится общим [для обеих природ]... , [но] именно Божественность сообщает Свои преимущества телу, Сама оставаясь вне плотских страстей (7).
Ипостасное единство подразумевает также, что Логос соделал человечность в ее целостности Своей собственной; поэтому Второе Лицо Троицы, разумеется, было субъектом, или деятелем, человеческих переживаний или действий Иисуса. Спор Кирилла Александрийского с Несторием из-за термина Theotokos, прилагаемого к Деве Марии, по сути имел в виду эту самую проблему. Была ли в Иисусе человеческая личность, матерью которой была Мария? Ответ Кирилла — подчеркнуто отрицательный — стал фактически выбором огромного значения для христологии. Во Христе был только один Сын, Сын Божий, и Мария никак не могла быть матерью кого-то еще. Она была, несомненно, "Матерью Божией". Точно такое же затруднение возникло и в связи со смертью Христа: бесстрастие и бессмертие суть несомненно характеристики Божественной природы. Как же тогда, спрашивали богословы из Антиохии, мог умереть Сын Божий? Очевидно, "субъектом" смерти Христовой была только Его человечность. Против этой точки зрения, и следуя Кириллу, Пятый собор (553 г.) утверждает: "Если кто не исповедует, что Господь наш Иисус Христос, Который был распят на кресте во плоти, есть Истинный Бог и Господь Славы и один от Святой Троицы, да будет ему анафема" (8). Этот соборный текст, являющийся парафразой стиха 1 Кор. 2:8 ("...если бы познали, то не распяли бы Господа Славы"), вдохновил на создание гимна "Единородный Сыне", приписываемого императору Юстиниану и воспеваемого на каждой византийской Евхаристической литургии: "Один из Святой Троицы, Ты был распят на кресте за нас"81.
"Теопасхизм" — принятие формулы, утверждающей, что "Сын Божий умер во плоти", — показывает, сколь на самом деле различны понятия "ипостась" и "природа", или "сущность". Это различение подчеркивал один из крупнейших богословов халкидонского направления в век Юстиниана Леонтий Иерусалимский. "Логос, — пишет Леонтий, — как говорится, пострадал по Ипостаси, ибо в Своей Ипостаси Он принял страдательную [человеческую] сущность наряду со Своей собственной бесстрастной Сущностью, а что можно утверждать о [человеческой] сущности, то может быть заявлено и об ипостаси" (9). Из этого следует, что характеристики Божественной Сущности: бесстрастность, неизменность и т.п. не абсолютно привязаны к личному, или ипостасному существованию Божиему. Позднее мы увидим важность этого обстоятельства для патристического и византийского понимания Бога. Между тем, на уровне сотериологии, утверждение, что Сын Божий несомненно "умер во плоти", отражает, лучше всякой иной христологической формулы, безграничность любви Божией к человеку, реальность "приятия" Логосом падшей и смертной человечности, — то есть саму тайну спасения.
То и дело повторяющиеся нападки на византийскую христологию, как это было определено Пятым собором, сводятся, по сути дела, к тому, что она, фактически, изменила Халкидону, обеспечив посмертное торжество односторонним воззрениям александрийской христологии. Приняв Божественную Ипостась Логоса, человечность Христова, согласно этим критикам, могла бы лишиться подлинно человечного характера. "В Александрийской христологии, — пишет Марсель Ришар, — никогда не находилось места для истинной психологии Христовой, для реального культа человечности Спасителя, пусть даже и явно признавалось принятие Словом человеческой души" (10). И Шарль Меллер утверждает, что "склонность Востока видеть Христа все более и более как Бога (эта тенденция столь отчетлива в восточной Литургии) выдает определенную исключительность, которая возрастет после раскола" (11). Этот "неохалкидонизм" византийцев противопоставляется, следовательно, истинно халкидонской христологии, причем первый осуждается как тайное монофизитство; оно состоит, в сущности, в таком понимании ипостасного союза, будто он настолько изменил человеческие качества Иисуса, что Христос перестал быть вполне человеком.
Без сомнения верно, что византийское богословие и духовность очень ясно осознавали уникальность Личности Иисуса и неохотно исследовали Его человеческую "психологию". Уравновешенное суждение об этом предмете, однако, можно вынести, лишь памятуя не только доктрину об ипостасном соединении, но и преобладающий на Востоке взгляд на то, что такое "природный" человек. Ибо в Иисусе, Новом Адаме, восстановилась "природная" человечность. Как мы уже видели, "природного" человека считали участвующим в Славе Божией. Такой человек, несомненно, не будет вполне подвластен законам "падшей" психологии. Эти законы не отрицаются в Иисусе, но рассматриваются в свете сотериологии.
Эта проблема в ее полном масштабе никогда напрямую не разбиралась византийскими богословами, но имеются некоторые указания, способные помочь нам уяснить их позицию. Это: а) толкование ими таких мест, как Лк. 2:52 ("Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте..."); б) их отношение к ереси Афтартодокетизма; и в) позиция православных защитников икон в борьбе с иконоборцами.
а) Идея "преуспевания в премудрости" предполагает ступень неведения в Иисусе, чему свидетельством хорошо известные места из Евангелия (Мк. 13:32, к примеру). Византийскую мысль об этом предмете смущала идея Евагрия о "сущностном ведении", которое будто бы отличало человечность прежде Грехопадения. Еще Евагрий был уверен в том, что Иисус был как раз этим сотворенным "интеллектом", сохранившим свое исконное знание. Искание gnosis мыслилось, разумеется, в духовной традиции евагрианства, которая выжила на христианском Востоке как само содержание духовной жизни. Это могло повлиять на то, что большинство византийских авторов отрицало факт какого-либо "неведения" в Самом Иисусе, Иоанн Дамаскин, например, мог написать следующее:
"Следует знать, что Слово приняло неведуюицую и подвластную природу, [но] благодаря тождеству Ипостаси и неразлучности единства, душа Господня была обогащена ведением грядущего и иных божественных знамений; сходным образом, плоть человеческого существа не есть по природе жизнедающая, тогда как плоть Господня, не перестав быть смертной по природе, стала жизнедарующей благодаря своему ипостасному соединению со Словом" (13).
Этот текст представляет собой ясный пример показательных для византийских авторов утверждений об ипостасном соединении, которое — в силу "сообщения свойств" — меняет характер человеческой природы. Но такая модификация, несомненно, видится в рамках динамической и сотериологической христологии; человечность Христова является "пасхальной" в том смысле, что в ней человек совершает "переход из смерти в жизнь", от неведения к знанию, от греха к праведности. Между тем во многих менее оправданных случаях неведение Иисуса, как оно описано в текстах Евангелия, истолковывается очень просто как педагогический прием со стороны Христа, который лишь "делает вид", оказывает "снисхождение". Такое очевидно неудовлетворительное решение отвергалось иными авторами, утверждавшими настоящее, человеческое неведение Христово.
"Большинство отцов согласны, — пишет безымянный автор трактата "De sectis" 82 , — что Христос был неведующим в отношении определенных вещей; если Он во всем единосущен нам, и поскольку мы сами не знаем некоторых вещей, ясно, что Христос тоже страдал неведением. Писание говорит о Христе: "Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте" [Лк. 2:52]; это означает, что Он учился тому, чего не ведал прежде" (14). Очевидно, византийские богословы действительно были озабочены распознанием во Христе нашей падшей человечности, но их мнение остается наименее ясным относительно того момента, когда в Иисусе эта человечность стала преображенной, совершенной и "естественной" человечностью Нового Человека.
б) Ересь афтартодокетов (Aphthartodocetae), вождем которых был богослов VI в. Юлиан Галикарнасский, мыслила человечность Христову неиспорченной, за что их обвинили в докетическом понимании Воплощения. Как показал Р. Драге, вопрос тут касался не столько связи ипостасного соединения с подверженностью тлению, сколько самой человеческой природы. То ли человек естественно подвержен тлению (как он естественно несведущий), то ли подверженность порче пришла с грехом? Афтартодокеты отрицали, что человек портится по природе. Поскольку Христос — это Новый Адам и истинно "естественный" человек, Его человечность, конечно же, порче не поддается. Отвергая афтартодокетизм, православные утверждали, что (1) унаследованная от Адама смертность не означала наследования виновности и что (2) Логос добровольно принял не абстрактную идеальную, но нашу падшую человечность, со всеми последствиями греха, включая подверженность тлению. Противостояние афтартодокетам определенно послужило сохранению более ясного представления о реальной и вполне человеческой природе Христа.
в) Иконоборчество несомненно было еще одним способом отрицания того, что Христос — Человек в конкретном и индивидуальном смысле. Патриарх Никифор, один из ведущих православных полемистов, называл иконоборцев "аграптодокетами"83, потому что они считали Иисуса "неописуемым" (15). Чтобы оправдать возможность живописать образ Христов, Иоанн Дамаскин, а еще более Феодор Студит настаивали на существовании у Христа определенного индивидуального облика. "Неописуемый Христос, — пишет Феодор, — был бы также и бестелесным Христом; но Исайя (8:3) описывает Его как Младенца мужского пола, а только вид тела может сделать мужчину и женщину отличными друг от друга" (16). Никифор, чтобы отстоять употребление образов, усиленно подчеркивает человеческие ограничения Иисуса, голод, жажду (17): "Он действовал, желал, не знал и страдал, как человек" (18). Это означает, что Он был человеком, как все мы, и, стало быть, Его можно изобразить на иконе.
В истолковании православных богословов VIII—IX вв., сражавшихся с иконоборчеством, икона Христова становится исповеданием веры в Воплощение:
"Неначальное зачалось в утробе Девы [пишет Феодор Студит]; Неизмеримое стало высотой в три локтя84; Бессвойственное обрело свойство; Беспредельное стояло, сидело, ложилось; Тот, Кто повсюду, поместился в яслях; Тот, Кто превыше времени, исподволь достигает двенадцатилетнего возраста; Тот, у Кого нет образа, является в облике человеческом, а Бестелесное входит в тело... . Следовательно, Он является описуемым, и неописуемым (19).
Для Феодора икона Христова — лучшая из возможных иллюстраций того, что разумеется под ипостасным единством. То, что является в образе, это Сама Ипостась Божиего Слова во плоти. В византийской традиции в ореол вокруг головы Иисуса принято вписывать "Один Кто есть". Это эквивалент священного ветхозаветного имени YHWE (Яхве), Имени Божиего, Лицо Которого нам открылось, но Сущность Которого для нас непостижима и недоступна. Это не есть неописуемая Божественность Божия и не одно лишь Его человеческое естество представлены на иконе, но Лицо Божиего Сына, принявшего плоть. "Всякое изображение, — пишет Феодор, — есть изображение Ипостаси, а не природы" (20).
Написать изображение Сущности Божией прежде Его Воплощения очевидно невозможно; точно так, как невозможно представить человеческую природу как таковую, — она может быть отображена лишь символически. Поэтому символические образы ветхозаветных богоявлений не есть вполне "иконы" в истинном смысле слова. Но икона Христова является совсем другим. Телесные очи могли видеть Ипостась Логоса во плоти, хотя ее Божественная Сущность оставалась сокровенной; именно эта тайна Воплощения и делает возможными священные иконы и требует почитания их.
Защита икон вынудила византийскую мысль вновь утвердить полную конкретную человечность Христову. Дополнительное доктринальное постановление к монофизитству Византийская Церковь выработала еще в VIII—IX вв. Но важно признать, что эта позиция была занята не ценою доктрины об ипостасном единстве либо Кириллова разумения ипостасной тождественности Воплощенного Логоса, а строилась в свете прежних христологических формулировок. Победа над иконоборчеством явилась новым подтверждением халкидонской и пост-халкидонской христологии.
2. Искупление и обожение
Халкидонское определение провозгласило Христа единосущным не только Своему Отцу, но и "нам". Поэтому и будучи вполне Человеком, Христос не обладает человеческой ипостасью, ибо Ипостась Его обеих природ — это Божественная Ипостась Логоса. Каждый человеческий индивид вполне "единосущен" своим ближним, другим людям, и тем не менее коренным образом отличается от них своей единственной, неповторимой и неподражаемой личностью, то есть ипостасью: ни один человек не может вполне пребывать в ином человеке. Но Ипостась Иисуса имела основополагающее сходство со всеми прочими человеческими личностями: она была для них образцом. Ибо, разумеется, все люди созданы по образу Божию, то есть по образу Логоса. Когда Логос стал воплощенным, Божественная печать совместилась со своим оттиском: Бог принял человечность таким образом, который не исключал никакую человеческую ипостась, но который открыл всем им возможность к восстановлению их единения в Себе. Он стал "Новым Адамом" , в Котором каждый человек обретает свою собственную природу, осуществленную в совершенстве и полноте, без ограничений, которые могли бы быть неминуемы, будь Иисус лишь человеческой Личностью.
Именно такова концепция Христова, которую имел в виду Максим Исповедник, вновь подчеркивая древний, восходящий к апостолу Павлу, образ "воссоздания возглавления" относительно воплощенного Логоса (21) и усматривая в Нем победу над разрушительными разделениями в человечности и человечестве. Как Человек Христос "выполняет во всей истине подлинное человеческое предназначение, которое Он сам предопределил как Бог и от которого человек отвратился: Он воссоединил человека с Богом" (22). Поэтому халкидонская и постхалкидонская христология была бы бессмысленным умозрением, не будь она ориентирована на понятие искупления. "Вся история христологического догмата определялась этой основной идеей: Воплощение Слова как Спасение" (23).
Византийское богословие не произвело каких-либо значительных разработок учения Павла об оправдании, выраженного в его Посланиях к Римлянам и Галатам. Греческие патристические комментарии к таким фрагментам, как Гал. 3:13 ("Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою"), как правило истолковывали идею искупления через подмену в более широком контексте победы над смертью и освящения. Греческие отцы никогда не развивали этой идеи в направлении теории Ансельма об "удовлетворении". Добровольное приятие человеческой смертности Логосом было деянием Божией снисходительности", которым Он соединил с Собою все человечество; ибо, как пишет Григорий Богослов, "что не принято, то не исцелено, а что соединено с Богом, то спасено" (24); следовательно, "мы имели нужду в том, чтобы Бог сделался плотью и поддался смерти, Дабы мы смогли снова жить" (25).
Смерть "Единого от Святой Троицы во плоти" была добровольным актом, добровольным приятием Богом всего объема человеческой трагедии. "Нет в Нем ничего от понуждения или необходимости; все свободно: волею Он бывал голоден, волею жаждал, волею тревожился и волею Он умер" (26). Но — ив этом существенное различие между православными и афтартодокетами — эта Божественная свобода Ипостаси Логоса не ограничила реальность тех условий, в которых Он жил как Человек: Господь принял смертную человечность в самый момент Воплощения, когда уже принято свободное Божественное решение умереть. "Он принял тело, не отличающееся от наших, — пишет Афанасий, — Он принял от нас природу, похожую на нашу, и, поскольку мы все подвластны тлению и смерти, Он отдал Свое тело смерти за нас" (27).
Мысль о кресте как цели самого Воплощения ярко выражена в византийских литургических текстах Рождества. Песнопения предпразднества (с 20 по 24 декабря) построены по образцу гимнологии Страстной седмицы, а смирение Вифлеема видится ведущим на Голгофу: "Смирною смерть, ... проявляют царие языков, начатки дароносяще Тебе...", "Рожденный бо ныне плотию, во гроб и смерть хотел еси внити, паки воскреснути тридневен" (28).
Вопрос, имело бы ли место Воплощение, если бы не было Грехопадения, — никогда особенно византийцев не занимал; византийские богословы рассматривали конкретный факт смертности людей как космическую трагедию, в которой Бог через Воплощение лично — или, скорее, ипостасно — принимает участие. Главным и, похоже, единственным исключением из этого общего взгляда оказывается Максим Исповедник, для которого Воплощение и "рекапитуляция" всего сущего во Христе составляют истинную "цель" и "назначение" творения; Воплощение, следовательно, было предусмотрено и предназначено вне связи с трагическим злоупотреблением человека его человеческой свободой (29).
Такой взгляд совершенно согласуется с идеей Максима о тварной "природе" как динамическом процессе, направленном к эсхатологической цели, — эта цель есть Христос Воплощенный Логос. Как Творец Логос есть "начало" творения, а как воплощенный Он есть также и "конец", когда все сущее будет существовать не только "через Него", но "в Нем". Чтобы быть "во Христе, творение должно быть принято Богом, сделаться Его собственным" ; Воплощение, следовательно, есть предварительное условие окончательного прославления человека, независимо от его греховности и тленности.
Принимая во внимание падшее состояние человека, это конечное восстановление делается возможным через искупительную смерть Христа. Но смерть Христова воистину искупительна и "жизнедательна" именно потому, что это — смерть Сына Божия во плоти (то есть благодаря единой ипостаси). На Востоке крест виделся не столько наказанием праведного, которым "удовлетворяется" трансцендентная Справедливость, требующая воздаяния за грехи человеческие. Как правильно пишет Георгий Флоровский: "Смерть на Кресте возымела действие не как смерть Невинного, но как смерть Воплощенного Господа" (30).
Дело не в том, чтобы дать удовлетворение требованиям закона, но в том, чтобы преодолеть пугающую космическую реальность смерти, которая держала человечество под своей узурпированной властью и загоняла его в порочный круг греха и испорченности. И, как показал в своей полемике против ариан Афанасий Александрийский, один Бог в силах преодолеть смерть, ибо у Него "одного есть бессмертие" (1 Тим. 6:16) 85. Точно так же, как первородный грех не состоит в унаследованной вине, так и искупление — это прежде всего не оправдание, но победа над смертью. Византийская литургия, следуя за Григорием Нисским, использует образ диавола, заглатывающего крючок, скрытый телом Эммануила; та же мысль обнаруживается в проповеди, приписываемой Златоусту и читаемой на Литургии в пасхальную ночь: "Ад принял тело, а встретил Бога; он принял смертный прах, а встретил лицом к лицу Небеса".
Обобщая это патристическое представление о смерти и воскресении в свете христологических утверждений V—VI вв., Иоанн Дамаскин пишет:
"Хотя Христос умер как человек, а Его святая душа отделилась от Его пречистого тела, Его Божественность осталась и с душою, и с телом, и продолжала быть нераздельно с обоими. Итак, одна Ипостась не разделилась на две ипостаси, ибо с самого начала и тело, и душа существовали в Ипостаси Слова. Хотя в час смертный тело и душа разлучились друг с другом, однако каждое из них было сохранено, имея одну Ипостась Слова. Следовательно, одна Ипостась Слова была Ипостасью Слова; то есть также и ипостасью тела и души. Ибо ни тело, ни душа не имели когда-либо какую-либо особую ипостась, кроме той, что была Ипостасью Слова. Ипостась Слова, значит, всегда одна, и никогда не бывало двух ипостасей Слова. Соответственно, Ипостась Христа всегда одна. И хотя душа отделена от тела в пространстве, они все же оставались ипостасно соединенными через Слово" (31).
Triduum of Easter— три дня, когда человечность Христова страдала общей участью для человека, все же таинственно оставаясь во-су-ществленной в одной Божественной Ипостаси Логоса — графически изображается в традиционной византийской иконографии Воскресения: Христос, попирающий врата Шеола 86 и возводящий вновь к жизни Адама и Еву. Лучше любого понятийного языка, а также лучше, чем образ какого-то частного события или стороны Таинства — таких, скажем, как изображение пустой гробницы или даже самого распятия на кресте, — эта икона указует на динамичное, сотериологическое измерение смерти Христовой: вторжение Божие в удел, узурпированный диаволом, и расторжение уз диавольской власти, наложенных на человечество. Та же тайна ипостасного единства, остающегося нерушимым в самой смерти, выражена в византийской Литургии Страстной Седмицы; на Великую пятницу, на вечерне, в тот самый момент, когда Христос испускает дух, начинают звучать первые гимны Воскресения:
"Мира приличествует мертвым, но Христос показал Себя свободным от тления"87. Сокровенное, однако решающее торжество над смертью пронизывает Литургическое богослужение Великой Субботы: "Аще бо и разорися Твой храм во время страсти, но и тако един бе состав Божества и плоти Твоея" (32). В этих текстах и обнаруживается окончательный сотериологический довод, в силу которого теопасхальная формула Кирилла превратилась в VI столетии в мерило православности в византийском богословии: смерть была преодолена именно потому, что Сам Бог вкусил от нее ипостасно в человечестве, которое Он принял. Это есть пасхальная весть христианства.
В связи с нашим рассмотрением воззрений греческой патристики на первородный грех как унаследованную смертность, мы упоминали о сопутствующем понимании Воскресения как основания христианской этики и духовности. Ибо Воскресение Христово несомненно означает, что смерть перестала быть управляющим началом в существовании человека и что, следовательно, человек свободен и от рабства греху. Смерть определенно остается некоторым физическим феноменом, однако она не господствует над человеком как неминуемая и окончательная судьба:
"Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут" (1 Кор. 15:22). А Афанасий пишет: "Отныне мы исчезаем лишь на время, согласно смертной природе наших тел, чтобы лучше принять воскресение; подобно семенам, брошенным в землю, мы не гибнем, но сеемся в землю, чтобы восстать вновь, поскольку смерть низведена в ничто благодатью нашего Спасителя" (33). А вот Златоуст: "Верно, мы все еще умираем, как прежде, но мы не остаемся во смерти; и это не то, что умирать. Сила и сама действительность смерти как раз в том, что умерший человек не имеет возможности вернуться к жизни. Но если после смерти ему предстоит ожить и, более того, быть наделенным лучшей жизнью, тогда это уже больше не смерть, но впадение в сон" (34).
Поскольку смерть перестала быть единственным возможным концом существования, человек свободен от страха, а грех, основанный на инстинкте самосохранения, не является более неизбежным. Порочный круг был разорван в Пасхальное Воскресенье и разрывается всякий раз, когда "смерть Христова возглашается и Его Воскресение исповедуется".
Но что конкретно означает "бытие во Христе"? Последняя цитата из византийского Евхаристического канона св. Василия подсказывает ответ: через Крещение, Миропомазание и Евхаристию человек добровольно становится членом восставшего Тела Христова.
Это начало свободы — и даже "сознательности" — существенно Для учения о спасении, как оно понималось византийской патристической, сакраментальной и литургической традицией. С одной стороны, тут подчеркнуто утверждается универсальность искупления. Григорий Нисский, к примеру, уверяет нас, что:
"Как начало смерти имело свое восстание в одном лице и прошло последовательно через всю человеческую природу, так и начало Воскресения распространяется с одного лица на все человечество... Таково Таинство замысла Бога относительно Его смерти и Его воскресения из мертвых" (35).
И его мысли об универсальности искупления и "рекапитуляции" снова находим у Максима Исповедника. С другой стороны, новая жизнь во Христе подразумевает личное и свободное согласие на служение. В последний день Воскресение будет, конечно, всеобщим, но блаженство будет даровано лишь тем, кто стремился к нему. Николай Кавасила говорит нам, что "воскресение природы" есть свободный дар Бога, данный через Крещение даже детям, еще не способным выразить на него свое согласие; но "Царство, созерцание Бога и общая жизнь со Христом принадлежат свободной воле" (36).
Византийские богословы редко уделяли внимание умозрениям относительно участи душ после смерти. Тот факт, что Логос принял человеческую природу как таковую, подразумевал универсальное значение искупления, но не apokatastasis, то есть не универсальное спасение, доктрину, которую в 553 г. осудили формально как оригенистское. Свобода должна оставаться неотчуждаемым началом каждого человека, и никого нельзя принудить войти в Царство Божие против его свободной воли; apokatastasis был отвергнут именно потому, что он предполагал предельные ограничения человеческой свободы — свободы оставаться вне Бога.
Но отвергая Бога, человеческая свобода на самом деле саморазрушается. Вне Бога человек перестает быть подлинно и вполне человечным. Через смерть он становится рабом диавола. Эта мысль, являвшаяся центральной в мышлении Максима и побуждавшая его с такой убежденностью исповедовать существование тварной воли во Христе, служила основанием византийскому пониманию предназначения человека: участие в Боге, или "обожение" (theosis), — как конечная цель человеческого существования.
Человечность Христова, во-существившаяся в Логосе, благодаря "сообщению свойств" пропитана Божественной "энергией". Это, следовательно, обоженная человечность, которая, тем не менее, никоим образом не теряет свои человеческие черты. Совсем напротив. Эти черты становятся даже более реальными и подлинными через контакт с Божественным образцом, по которому они создавались. Человек призван соучаствовать в этой обоженной человечности Христа. Таков смысл жизни в таинствах и таково основание христианской духовности. Христианин не призван к "подражанию" Иисусу — такая имитация не более чем чисто внешний и моральный акт, — но, по словам Николая Кавасилы, — к "жизни во Христе" через Крещение, Миропомазание и Евхаристию.
Обожение описывается Максимом как участие "всего человека" во "всем Боге":
"Таким же образом, которым душа и тело соединены, Бог может стать доступным для участия душою и, через посредничество души, телом, чтобы душа могла получить неизменный характер, а тело — бессмертие; и наконец, чтобы весь человек мог стать Богом, обожившись Благодатью Бога, ставшего Человеком, становясь полным, целостным человеком, душою и телом, по природе, и становясь всем и во всем Богом, душою и телом, по благодати" (37).
"Итак, для Максима доктринальные основания обожения человека ясно обретаются в ипостасном единстве природ во Христе" (38). Человек Иисус — Бог по Ипостаси, и, следовательно, в Нем имеет место "общение" (perichōrēsis circumincessio 88) "энергий", Божественной и человеческой. Этого "общения" достигают также и те, кто суть "во Христе". Но они суть человеческие ипостаси и соединены с Богом не ипостасно, но лишь "благодатью" или "энергией". "Человек, который становится послушен Богу во всем, слышит Бога, говорящего: "Я сказал: вы — боги" (Ин. 10:34); он тогда есть Бог и зовется "Богом" не по естеству или по отношению, но [Божественным] повелением и благодатью" (39). Но человек может обожиться не своею деятельностью или "энергией", — так утверждать могли бы пелагиане — но через Божественную "энергию", которой "повинуется" его человеческая деятельность; между обеими "энергиями" возникает некоторая "синергия", т.е. сотрудничество, а связь обеих энергий во Христе является онтологической основой для "синергии".
Но смешения двух природ тут нет, точно так же, как не может быть какого-либо участия человека в Божественной Сущности. То же богословие обожения можно обнаружить и у Григория Паламы: "Бог в Своем совершенстве обоживает тех, кто того достоин, соединяя Себя с ними, не ипостасно — что свойственно одному Христу, — и не сущностно, но через малую часть нетварных энергий и нетварной Божественности, ... в то же время, однако, будучи всецело присутствующим в каждом [из обоженных]" (40). На самом деле Византийский собор в 1351 г., тот самый, что утверждал богословие Паламы, определил свои решения как "развитие" постановлений Шестого Вселенского собора (680 г.) о двух волях или "энергиях" Христовых (41).
В "обожении" человек достигает высшей цели, ради которой он и был сотворен. Эта цель, уже осуществленная во Христе односторонним деянием Любви Божией, представляет собой и смысл человеческой истории, и некоторое суждение о человеке. Она открыта отзыву человека и его свободному усилию.
3. Theotokos
Единственным доктринальным определением о Марии, которое было формально обязательным для Византийской Церкви, является решение Собора в Эфесе, назвавшее Ее Theotokos, то есть "Матерью Божией". Это постановление явно имело христологический, а не мариологический характер, но тем не менее оно было созвучно мариологической теме "Новой Евы", которая появилась в христианской богословской литературе во II столетии и свидетельствовала, в свете восточных воззрений, на наследие Адамово, в пользу концепции человеческой свободы, более оптимистичной, чем мнения на этот счет, преобладавшие на Западе.
Но именно богословие Кирилла Александрийского, утверждающее личностное, ипостасное тождество Иисуса с предсуществующим Логосом, было одобрено в Эфесе и послужило христологическим основанием для пышного расцвета благочестия, сосредоточенного на личности Марии, начавшегося в V в. Бог стал нашим Спасителем, становясь Человеком; но это "очеловечивание" Бога произошло через Марию, Которая, стало быть, неотъемлема от Личности и трудов Сына Своего. Поскольку в Иисусе нет человеческой ипостаси и поскольку мать может быть матерью только "кого-то", а не чего-то, то Мария, разумеется, Мать воплощенного Логоса, "Матерь Бога". А поскольку обожение человека имеет место "во Христе", Она является также — в смысле, столь же реальном, что и участие человека "во Христе", — и Матерью всего Тела Церкви.
Эта близость Марии ко Христу вела к росту популярности на Востоке тех апокрифических преданий, которые сообщали о Ее телесном прославлении после смерти. Эти предания отражены в гимнографической поэзии Праздника Успения (Koimesis, 15 августа), однако так никогда и не стали предметом богословских рассуждений или доктринальных определений. Предание о телесном "взятии на небо"89 Марии трактовалось поэтами и проповедниками как эсхатологическое знамение, следование примеру Воскресения Христова, предчувствие грядущего общего Воскресения. Тексты очень ясно говорят о естественной смерти Девы, исключая даже намек на какую-то связь этого события с учением о Непорочном Зачатии, из которого могла бы последовать попытка приписать Деве бессмертие, что уж совершенно немыслимо в свете восточных представлений о первородном грехе как унаследованной смертности (42). Поэтому безудержность в проявлении почитания Марии в византийской Литургии есть не что иное, как иллюстрация к доктрине об ипостасном единстве во Христе Божественности с человечеством. В каком-то смысле они являют собой законный и органичный способ перевода довольно абстрактных концепций христологии V—VI вв. на уровень простого верующего.
Православному Успению соответствует западное Assumptio, по-латыни "Принятие, "Взятие", Марию приняли в число небожителей.
Примечания
1. 24 декабря, вечерня; The Festal Menaion, trans. Mother Mary and K. Ware (London: Faber, 1969), p. 254.
2. 25 декабря, утреня; там же, с. 269.
3. Святый и Великий Пяток, вечерня.
4. 6 августа, Преображение, вечерня; Festal Menaion, р. 476-477.
5. Константинопольский Собор 680 г.; Денц. 291.
6. Maximus the Confessor, Expos, oral, domin.; PG 90:877θ.
7. John of Damascus. De fide orth.. Ill, 15; PG 94:1057ЯC.
8. Денцлер 222; Анафема 10 Собора 553 г.
9. Leontius of Jerusalem, Adv. Nest.. VIII, 9; PG 86:1768л.
10. Marcel Richard, «St. Athanase et la psychologie du Christ selon les Ariens», Mel Sei Rel 4 (1947), 54.
11. Charles Moeller, «Le chalcйdonisme et le ne'o-chalce'donisme en Orient de 451 а la fin du VI' siиcle», in Grillmeier-Bacht, I, 717.
12. См. там же, с. 715-716.
13. John of Damascus, De fide orth.. Ill, 21; PG 94:1084в-1085А.
14. Anonymous, De sectis; PG 86:1264A.
15. Patriarch Nicephorus, Antirrh.. I; PG IOO:268A.
16. Theodore the Studite, Antirrh., Ill; PG 99:409c.
17. Nicephorus, Antirrh., I; PG 100:272в.
18. Тамже;РС100:328во.
19. Theodore the Studite, Antirrh, III; PG 99:396в.
20. Там же, III; PG 99:405A.
21. См. в особенности Maximus the Confessor, Amb.; PG 90:1308θ, Ι3Ι2Α.
22. J. Meyendorff, Chrht, p. 108.
23. Georges Florovsky, «The Lamb of God,» Scottish Journal of Theology (March 1961), 16.
24. Gregory of Nazianzus, Ep. 101 ad Cledonium; PG 37:181c-I84A.
25. Gregory of Nazianzus, Horn. 45; PG 36:661c.
26. John of Damascus, De fide orth.. IV, 1; PG 94:110lA.
27. Athanasius, De incarn., 8; PG 25:109 C.
28. 24 декабря, Всенощная, канон, песни 5 и 6; Festal Menaion, p. 206-207.
29. Maximus the Confessor, Ad Thai.,. 60; PG 90:62lAC.
30. Florovsky, «The Lamb of God», p. 24.
31. John of Damascus, De fide orth.. Ill, 27; PG 94:1097AB.
32. Святая и Великая Суббота, утреня, канон, песнь 6.
33. Athanasius, De incarn., 21; PG 25:I29o.
34. John Chrysostom, In Haebr., hom. 17:2; PG 63:129.
35. Gregory of Nyssa, Catechetical Oration, 16; ed. J. H. Strawley (Cambridge: Harvard University Press, 1956), p. 71-72.
36. Nicholas Cabasilas, The Life in Christ, II; PG 150:541c.
37. Maximus the Confessor, Amb., PG 91:1088 C.
38. Thunberg, Microcosm and Mediator, p. 457.
39. Maximus the Confessor, Amb.; PG 91:1237AB.
40. Gregory Palamas, Against Akindynos, V, 26, не опубликовано и обнаружено в рукописи Parisinus Coislinianus 90, лист 145; обратная сторона; цитировалось в кн.: J.Meyendorff, Gregory Palamas, p. 182.
41. Tome of 1351 г.; PG 151:722в.
42. Я не хочу тут этим сказать, что западное учение о Непорочном Зачатии с необходимостью подразумевает бессмертие Марии, хотя некоторые римокатолические богословы и подталкивают к такому выводу (см., напр., M. Jugie, l'Immaculйe Conception dans l'Ecriture sainte et dan's la Tradition onentale, Bibliotheca Immaculatae Conceptionis, 3 [Rome, 1952]).
13. СВЯТОЙ ДУХ
Раннехристианское понимание творения и конечной участи человека неотделимо от пневматологии; но учение о Святом Духе в Новом Завете и у ранних отцов не так-то просто свести к системе понятий. Прения IV в. о Божественности Духа оставались в рамках сотериологического, экзистенциального контекста. Поскольку действие Духа дает жизнь "во Христе", Он не может быть творением; Он, разумеется, единосущен с Отцом и Сыном. Этот довод использовали и Афанасий в своих "Письмах к Серациону", и Василий — в знаменитом трактате "О Святом Духе". Эти два патристических сочинения оставались на протяжении всего византийского периода стандартными авторитетами в области пневматологии. Не считая спора о "Филиокве" — который шел скорее о природе Божией, чем о собственно Духе, — византийское Средневековье оставило очень мало концептуальных пневматологических разработок. Это не означает, однако, что переживание Святого Духа не было подчеркнуто с большей силой, чем на Западе, особенно в гимнологии, в сакраментальном богословии и в духовной литературе.
"Подобно тому, как если бы некто, ухватившись за один конец цепи, тянул ее, приближая тем самым и второй конец цепи к себе, так и тот, кто привлекает Духа, привлекает с Ним еще и Сына и Отца", — пишет Василий (1). Этот отрывок, столь показательный именно для мышления каппадокийской школы, подразумевает, первым делом, что все главные акты Бога — это деяния Троицы, а во-вторых, что особенная роль Духа состоит в установлении "первого контакта", за которым следует — экзистенциально, но не хронологически — откровение Сына и, через Него, Отца. Личное Бытие Духа остается таинственно сокровенным, пусть Он и деятелен на каждом великом этапе Божественной активности: сотворении, искуплении, окончательном исполнении. Его функцией является не явление Себя, но явление Сына, "через Которого все было создано"90 , и Который также лично известен в Его человечности как Иисус Христос. "Невозможно дать точное определение Ипостаси Святого Духа, и мы должны просто сопротивляться ошибкам, касающимся Его, каковые приходят с разных сторон" (2). Личное существование Святого Духа поэтому остается тайной. Это — "кенотическое"91 Бытие, исполнение которого состоит в явлении Царства Логоса в творении и в истории спасения.
1. Дух в творении
Каппадокийские отцы считали, что тринитарное истолкование всех деяний Бога подразумевает участие Духа в Акте творения. Когда книга Бытия говорит, что "Дух Божий носился над водою" (Быт. 1:2), то патристическое Предание истолковывает это место в смысле изначального поддержания всего сущего Духом, что сделало возможным последующее явление сотворенного логичного порядка Словом Божиим. Здесь, разумеется, не имеется в виду хронологическая последовательность, деяние Духа есть составляющая непреходящего творческого действия Бога в мире. "Начало всего сущего одно, — пишет Василий, — то, что творит через Сына и совершенствует в Духе" (3).
Василий отождествляет эту функцию "совершенствования" творения с "освящением", имея в виду, что не только человек, но и природа в целом совершенны сами по себе лишь в общении с Богом и при "наполнении" себя Духом. "Мирское" всегда несовершенно или, вернее, существует лишь в падшем и ущербном состоянии творения. Это, в частности, верно в отношении человека, природа которого состоит в том, что он есть существо "теоцентричное". Человек получил эту "теоцентричность", которую греческие отцы всегда понимали как реальное "участие" в жизни Божией, тогда, когда он был сотворен и когда Бог "вдунул в лице его дыхание жизни" (Быт. 2:7). Это "дыхание" жизни Божией, отождествляемое со Святым Духом на основании текста Септуагинты, и есть то, что делает человека "образом Божиим". "Будучи взятым от земли, — пишет Кирилл Александрийский, — он не мог бы явиться образом Всевышнего, не получи он это [дыхание]" (4). Поэтому "совершенствующая" деятельность Духа не принадлежит к категории "чудес", но образует собой составляющую изначального и естественного замысла Божиего. Он принимает, вдохновляет и оживляет все то, что все еще в основах своих хорошо и прекрасно, несмотря на Грехопадение, и сохраняет в творении первые плоды эсхатологического преображения. В этом смысле Дух есть само содержание Царствия Божия. Григорий Нисский сообщает о древнем варианте молитвы Господней "Да приидет Царствие Твое" (Лк. 11:2) как "Да снизойдет Твой Святой Дух на нас и очистит нас" (3). А византийское литургическое предание сохранило эту традицию, когда каждая отдельная служба в Церкви начинается с эсхатологического призывания Духа, к Которому обращаются как к "Царю Небесному"92.
Литургические службы Пятидесятницы, хотя и сосредоточены прежде всего на роли Духа в искуплении и спасении, еще и славят Духа как "Единого, Кто руководит всем сущим, Кто есть Господь всего и Кто хранит творение от распада" (9). Византийские народные обычаи, связанные с Пятидесятницей, наводят на мысль о том, что излияние Духа есть некоторое предвкушение вселенского преображения: по обычаю на Троицу храмы украшаются зеленью и цветами, что отображает переживание нового творения. Та же идея господствует в обряде "Великого освящения воды", совершаемого с великой торжественностью на Праздник Богоявления (6 января). Вода, первичное и исконное тварное начало, освящается "силой, творящим действием ["энергией"] и нахождением Духа Святого" (Великая ектения Праздника). Поскольку после Грехопадения мирские начала подвластны "князю мира сего", действие Духа должно иметь очищающую функцию. "Ты освятил еси потоки Иорданские, — возглашает иерей, — в кои Ты ниспослал с небес Духа Твоего Святого, и сокрушил головы змей, таившихся там".
Полное значение этого экзорцистского ритуала становится очевидным, если вспомнить о том, что, в библейских категориях, вода есть источник жизни для всего космоса, над которым призван властвовать человек. Только вследствие падения природа становится подвластна сатане. Но Дух освобождает человека из-под власти природы. А природа, вместо того чтобы оставаться источником власти бесовской, подучает "благодать искупления, благословение Иорданское" и превращается "в ключ бессмертия, дар освящения, отпущения грехов, исцеления немощей, сокрушения бесов" (7). Вместо того, чтобы господствовать над человеком, природа становится его служанкой, поскольку он есть образ Божий. Первоначальные райские взаимоотношения между Богом, человеком и космосом провозглашаются вновь: нисхождение Духа предвещает последнее исполнение, когда Бог будет "все во всем".
Это предчувствие, между тем, не магия, проявляющаяся в материальной Вселенной. Вселенная в своем эмпирическом существовании не меняется. Изменение можно увидеть лишь очами веры — то есть потому, что человек принял в сердце свое Духа, который вопиет: "Авва, Отче!" (Гал. 4:6), и, следовательно, человек в силах испытать в тайне веры райскую реальность природы, служащей ему, и распознать в таком своем опыте не какую-то субъективную фантазию, но понять, что это опытное переживание открывает окончательную истину о природе и творении в целом. Силою Духа истинная и природная связь между Богом, человеком и творением восстановлена.
2. Дух и искупление человека
В "икономии" спасения Сын и Дух неразлучимы. "Когда Слово вселилось в святую Деву Марию, — пишет Афанасий, — Дух, вместе со Словом, вошел в Нее; в Духе Слово образовало тело для Себя, творя его сообразно Себе, сообразно Своей воле привести все творение к Отцу через Себя" (8). Главным доводом в пользу единосущности Духа с Сыном и Отцом у Афанасия, Кирилла Александрийского и каппадокийских отцов является единство творящего и искупительного действия Божиего, которое всегда троично: "Отец все творит Словом в Духе Святом" (9).
Но существенное отличие деяния Логоса от действия Духа состоит в том, что Логос, а не Дух, стал Человеком и поэтому может непосредственно созерцаться в облике конкретного Лица и Ипостаси Иисуса Христа, тогда как Личное Бытие Святого Духа остается сокрытым Божественной непознаваемостью. Дух в Его действии открывает не Себя, но Сына: когда Он вселяется в Марию, Слово зачинается; когда Он покоится на Сыне при крещении во Иордане, Он открывает благую волю Отца к Сыну. Такова библейская и богословская основа самого распространенного мнения, обнаруживаемого у отцов и в литургических текстах, о Духе как образе Сына (10). Невозможно видеть Духа, но в Нем можно видеть Сына, тогда как Сам Сын — образ Отца. В контексте динамического сотериологического мышления статичная эллинская концепция образа отражает живую связь между Божественными Лицами, в которую, через воплощение Сына, включен человеческий род.
Мы уже видели, что в греческой патристической и византийской мысли спасение понималось, по существу, в терминах участия в обоженной человечности Воплощенного Логоса, Нового Адама и общения с ней. Когда отцы называют Дух "образом Сына", они имеют в виду, что Он, Дух, есть главный Деятель, превращающий такое общение в реальность. Сын дарует нам "первые плоды Духа, — пишет Афанасий, — с тем, чтобы мы смогли преобразиться в сынов Божиих, согласно образу Сына Божия" (11). Таким образом, если через Дух Логос стал Человеком, то также и истинная жизнь достигается у всех людей через Дух. "Каковы цель и результат страданий, трудов и учений Христа? — спрашивает Николай Кавасила. — Если рассматривать этот вопрос в отношении нас, то выходит, что ничто иное, как нисхождение Духа Святого на Церковь" (12).
Святой Дух преобразует христианскую общину в "Тело Христово". В византийских гимнах на день Пятидесятницы Дух иногда именуется "славой Христовой", дарованной ученикам после Вознесения (13), а на каждой Евхаристии собрание верных по Причастии поет: "Мы видели истинный свет; мы получили Небесного Духа; мы обрели истинную веру; мы поклоняемся нераздельной Троице, ибо Та спасла нас"93. Пятидесятница, день рождения Церкви, есть момент, когда открывается истинное значение креста Христова и Воскресения, когда новый человеческий род возвращается к единству с Богом, когда новое знание даруется "рыбакам". Такова главная тема праздника Пятидесятницы в византийской традиции и, что любопытно, такое понимание совпадает с убежденностью многих новейших исследователей истоков христианства в том, что полное понимание наставлений Христовых — это, разумеется, "после-Воскресенский" опыт первоначальной Церкви: "Святой Дух, через явление Свое в языках огня прочно насаждает память о тех человекоспасительных словах, которые Христос сказал Апостолам, получив их от Отца" (14).
Но "знание" или "память", даруемые Духом, это не какая-то интеллектуальная функция; это "знание" подразумевает "просвещение" человеческой жизни в целом. Тема "света", которая при посредничестве Оригена и Григория Нисского, позволила связать библейские теофании с греческим мистицизмом неоплатоников, пронизывает и литургическую гимнографию Пятидесятницы. "Отец есть Свет, Слово есть Свет, и Святой Дух есть Свет, Который был послан Апостолам в виде огненных языков и Которым весь мир просвещается и поклоняется Святой Троице" (торжественный гимн, который называется exaposteilarion). Ибо несомненно Святой Дух есть "слава" Христова, которая преображает не только человеческое тело исторического Иисуса, как это было в случае Преображения, но прославляет еще и Его более пространное "Тело", то есть всех тех, кто веруют в Него. Сравнение византийских литургических текстов Пятидесятницы с текстами на Праздник Преображения (6 августа) — причем, всегда важно помнить, что для византийца Литургия есть высочайшее выражение его веры и христианского опыта, — показывает, что чудо Пятидесятницы воспринималось как расширенная форма Фаворской тайны. На горе Фавор Божественный Свет был явлен ограниченному кругу учеников, но в Пятидесятницу Христос, "посылая Духа, просиял светом мира" (15), потому что Дух просвещает учеников и посвятил их в таинства небесные" (16).
Примеры можно без особого труда умножать, чтобы показать, что византийская богословская традиция все время сознавала то, что в "икономии" творения и спасения Сын и Дух исполняют одно Божественное деяние — без того, однако, чтобы подчиняться друг другу в своем ипостасном или личном существовании. "Глава" нового, искупленного человечества, несомненно, Христос, но Дух есть не только орудие Христа; Он, по словам Иоанна Дамаскина (перефразированным в гимнах Пятидесятницы), "Дух Божий, правый и сильный; источник мудрости, жизни и святости; Который есть и зовется Богом, подобно Отцу и Сыну; несотворенный, полный, творящий, всем правящий, все совершающий, всемогущий, беспредельно властный Господь всего творения и Сам ничему не подвластный; боготворящий, не боготворимый наполняющий, не наполненный; разделяемый, не разделяющий; освящающий, не освященный" (17).
Эта личная "независимость" Духа связана, как указывает Владимир Лосский, со всей Тайной искупления, — которая есть и объединение (или "рекапитуляция") человеческого рода в одной Божественночеловеческой Ипостаси Христа, Нового Адама, и таинственная личная встреча каждого человека с Богом. Объединение природы человеческой — это свободный Божественный дар, но личная встреча основывается на человеческой свободе:
"Христос становится единственным образом, подобающим общей для человечества природе. Святой Дух дарует каждой сотворенной по образу Божию личности возможность исполнения подобия в общей природе. Один дарует Свою Ипостась природе, другой дарует Свою Божественность личностям" (18).
Тут есть одна Божественность и одно Божественное действие, или "энергия", ведущая человеческий род к одной эсхатологической цели — обожению; но личные, ипостасные функции Сына и Духа не тождественны друг другу. Божественная благодать и Божественная жизнь суть одной единственной действительности, но Бог есть Троица, а не безликая и безличностная сущность, в которую зовут влиться человечество. Таким образом, здесь, как мы видели выше, византийская христианская традиция требует различения в Боге Единой непостижимой Сущности, трех Ипостасей, а также благодати, или энергии, через которую Бог входит в общение со Своими созданиями.
Таинство Пятидесятницы не есть Воплощение Духа, но ниспослание даров. Дух не открывает Свое Лицо, подобно тому как это делает Сын в Иисусе, и не производит во-существления человеческой природы в целом; Он сообщает Свою несотворенную благодать каждой чеовеческой личности, каждому члену Тела Христова. Новая человечность осуществляется в Ипостаси воплощенного Сына, но она получает от Духа только дары. Различие между Лицом Духа и Его дарами привлечет большое внимание византийского богословия в связи с богословскими спорами XIII и XIV вв. Григорий Кипрский и Григорий Палама будут в разных контекстах настаивать на том, что на Пятидесятницу апостолы получили вечные дары или "энергии" Духа, но что тогда не было нового ипостасного союза между Духом и человечеством (19).
Итак, богословие Святого Духа подразумевает чрезвычайно важную противоположность, имеющую отношение к природе самой христианской веры. В день Пятидесятницы произошло рождение Церкви — общины, которая обзаведется устройством и будет внутри себя иметь преемственность, и авторитет, и ниспослание духовных даров, освобождающих человека от рабства, дарующих ему свободу и личный опыт Бога. Византийское христианство сохранит осознание неизбежности трений между этими двумя сторонами веры: веры как доктринальной преемственности и авторитета и веры как личного опыта святых. Оно будет, как правило, понимать, что преувеличенное внимание к тому или другому из этих аспектов разрушает сам смысл христианского Евангелия. Дух дает строй общине Церкви и подтверждает подлинность священнослужителей, обладающих властью хранить этот строй, вести и учить; но тот же Дух поддерживает в Церкви и пророческие функции и открывает всю истину каждому члену Тела Христова, если только тот способен и достоин "принять" ее. Жизнь Церкви, потому что она сотворена Духом, не может быть низведена ни к "учреждению", ни к "событию", ни к авторитету, ни к свободе. Это есть "новое" сообщество, созданное Духом во Христе, где истинная свобода восстанавливается в духовном общении Тела Христова.
3. Дух и Церковь
На византийском литургическом языке термин komonia ("общение") является специфическим выражением, обозначающим присутствие Святого Духа в евхаристической общине, и одним из ключевых понятий в трактате Василия Великого о Святом Духе (20). Это замечание Важно постольку, поскольку оно подчеркивает, что "общение" Отца, Сына и Духа, как Божественной Троицы, "общение Святого Духа", которое вводит человека в Божественную жизнь, и "соборность", которая тогда сотворяется между людьми во Христе, не только обозначаются одним и тем же словом, но, в конечном итоге, представляют один и тот же духовный опыт, одну и ту же духовную реальность. Церковь есть не просто общество человеческих существ, объединенных друг с другом общими верованиями и устремлениями; это — koinonia в Боге и с Богом. И не будь Сам Бог Троичной koinonia, Церковь не смогла бы стать объединением лиц, несводимых друг к другу в своих индивидуальностях. И тогда участие в Божественной жизни было бы ничем иным, как неоплатоническим или буддистским слиянием с безличным "Единым".
Так что весьма особенное "единство", которое осуществляется в евхаристической koinonia, есть, par excellence, Дар Духа.
Одной из постоянно повторяющихся тем в византийской гимнографии Пятидесятницы является параллель, проводимая между "смешением" Вавилонским и "единством" и "согласием", произведенных нисхождением Духа в языках огненных: "Когда Всевышний снизшел и смешал языки, Он разделил народы; но когда Он раздавал языки огненные, Он всех воззвал к единству. Поэтому, мы единогласно славим Всесвятого Духа"94 (21). Дух не подавляет разнообразие творения; и, в особенности, не исключает Он истину личного опыта Бога, доступного каждому человеку; Он преодолевает разделение, противоречия и порчу. Он Сам есть "симфония" творения, которая осуществится во всей полноте в эсхатологическом совершении. Назначение Церкви в том, чтобы сделать доступным это совершение через предчувствие и с помощью своей роли "освящения", совершаемого Духом.
"Творение освящено, — пишет Василий, — а Дух есть Освятитель. Таким же образом, ангелы, архангелы и все небесные силы получают свою святость от Духа. Но Сам Дух обладает святостью по природе. Он не получает ее по благодати, но по существу; отсюда Он имеет отличительное наименование "Святой". Таким образом, Он священ по природе, как Отец и Сын священны по природе" (22). Таинственную, но всеобъемлющую роль Духа в "икономии" спасения нельзя выразить полнее, чем в этой подсказывающей тавтологии: Святой Дух "освящает", то есть Он творит koinonia человека с Богом, и отсюда между самими людьми образуется "община святых". Это наилучшим образом выражено в "анафоре Святого Василия" при богослужении в Византийской Церкви десять раз в году. Анафора звучит в самый торжественный момент эпиклесиса:
"Молим Тебя и взываем к Тебе, Святая Святых, да, ради благости Твоей, снизошел Твой Святой Дух на нас и на дары ныне приносимые во благословение, освящение и явление хлеба сего в драгоценное Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и Чаши сей в драгоценную Кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, ради жизни мира пролитую, и [чтобы Дух мог] соединить всех нас друг с другом, чтобы мы стали причастниками одного Хлеба и Чаши в общении [koinonia] Святого Духа".
Каждый крещается "в смерть Христову" индивидуально и получает "печать дара Святого Духа" в таинстве Миропомазания, но в таинстве Евхаристии все верующие участвуют сообща. Существование этой koinonia есть равно и условие Евхаристического чуда — Дух вызывается не только на "дары", но и "на нас и на дары" — и следствие этого чуда: Дух освящает дары с тем, чтобы koinonia могла стать всегда обновляющейся реальностью.
Роль Духа в преобразовании общины грешников в "Церковь Бога" отлична, но не существенно, в сравнении с Его ролью в творении; ибо "Новый Адам", будучи "новым творением", является еще и предвкушением всеобщего преображения мира, что и составляет конечное устремление и цель творческой деятельности Божией. Византийская Литургия и богословие всегда осознавали, что "Святым Духом всякая вещь живая получает жизнь" (23), из чего следует, что, будучи новым храмом Духа, Церковь наделена Божественной миссией в мире. Она не получает Духа ради себя самой, но чтобы исполнить замысел Божий в человеческой истории и во всем космосе. Параллелизм, как и различие между "первым" и "новым" творением, удачно выражены у Николая Кавасилы:
"[Бог] не творил вновь из той же материи, которую Он сотворил вначале. Тогда Он использовал прах земной; сегодня Он предоставляет собственное Свое тело. Он восстановил нам жизнь, не образуя вновь жизнетворное начало, которое Он прежде сохранил в природном устроении, но проливая Кровь Свою в сердца причащающихся, так, чтобы Он мог побудить Свою Жизнь расцвести в них. Прежде Он вдунул дыхание жизни; ныне Он дает нам Своего Духа" (24).
"Новое творение" связано с миссией в мире; поэтому Церковь всегда — "апостольская", то есть не только зиждется на вере тех, кто видел Воскресшего Господа, но и приемлет на себя их обязанность "посланных" провозглашать и учреждать Царствие Божие. И эта миссия получает свою подлинность от Духа. Византийские гимны на день Пятидесятницы славят Христа, "Который соделал рыбаков мудрейшими, посылая на них Святого Духа, а через них уловив мир в Свои сети" (25).
Дух наделил Церковь апостольской преемственностью в день Пятидесятницы и продолжает с тех пор даровать ей то же; и только Духом может Церковь сохранить связность и преемственность с первоначальным христианским Благовествованием. Различные формы пастырства, сотворенные Духом в христианской koinonia, a конкретнее, участие епископа, имеют целью сохранение и устроение такой преемственности, тем самым обеспечивая чистоту и действенность миссии Церкви в мире.
4. Дух и свобода человека
В 11-й главе мы говорили, что греческая патристическая традиция видела в человеке не самостоятельное автономное существо: греческие отцы полагали участие в Божественной жизни неотъемлемой составляющей человеческого естества. Но поскольку человек создан свободным, очевидно, что не может быть, как в западном богословии, какого-то противостояния между "благодатью" и свободой. Как раз напротив. Человек обретает подлинную свободу только "в Боге", когда через Святого Духа он освобождается от причинных связей тварного и падшего существования и получает власть делить с Богом господство над творением.
Этот подход к свободе был чреват исключительно важными следствиями для отношения человека к Церкви и к личной и общественной этике. С одной стороны, этот подход предполагает, что нигде, кроме как в священном обществе Церкви, невозможно достичь воистину освобождающей Божественной жизни. С другой стороны, весь подход к спасению человека остается основанным на личном, доверительном и свободном опыте Бога. Этот парадокс, несводимый к какой-то рациональной схеме, соответствует существенному элементу пневматологии: Дух одновременно и гарантирует преемственность и подлинность церковных сакраментальных учреждений и наделяет каждую человеческую личность способностью к свободному Божественному опыту и, следовательно, полнотой ответственности как за личное спасение, так и за соборную непрерывность пребывания Церкви в Божественной истине. Между соборным и сакраментальным, с одной стороны, и личным, — с другой, существует, следовательно, неизбежное напряжение в духовной жизни христианина и в его нравственном поведении. Царство, которое грядет, уже осуществляется в церковных таинствах, но каждый отдельный христианин призван врастать в него, прилагая собственные усилия и пользуясь своей Богоданной свободой в соработании Духу.
В византийской традиции никогда не обнаруживалось сильной склонности к созданию систем христианской этики, а Церковь никогда не считали источником авторитетных и подробных заявлений относительно поведения христианина. Разумеется, к церковным авторитетам нередко обращались затем, чтобы разрешить какие-то конкретные дела, и принятые в таких случаях решения считались авторитетными критериями для будущих суждений; однако главный поток творчества в византийской духовности представлял собой воззвание к "совершенству" и "святости", а не строгую систему этических положений. Именно такой мистический, эсхатологический и, стало быть, максималистский характер этого призыва к святости существенно отличает его от законничества средневекового римского католицизма, от пуританского морализма иных западных течений и от релятивизма новейшей "ситуационной этики". Всякий раз, когда они пытались найти образцы христианского поведения, византийские христиане скорее обращались к святым и "подвижникам"95, особенно к монахам. Монашеская литература — это источник par excellence для понимания нами византийской духовности, а в этой литературе господствовало "стяжание" Духа. Связанный главным образом с традицией Макария, поиск Духа особенно явственен в цветистых гимнах Симеона Нового Богослова, обращенных ко Святому Духу:
"Приношу Тебе благодарения за то, что Ты, божественное Бытие превыше всего сущего, соделал Себя одним духом со мною — неслиянно, неизменно — и что Ты стал всем во всем ради меня, несказанным питанием, свободно раздаваемым, которое опадает с уст души моей, которое течет в преизобилии из источника сердца моего; блистательная риза, покрывающая меня и защищающая меня и сокрушающая бесов; очищение, смывающее с меня всякое пятно теми святыми и вечнотекущими слезами, которыми присутствие Твое дает знать о Себе тем, кого Ты посещаешь. Приношу благодарения Тебе за Твое Бытие, Которое было открыто мне, как день без сумерек, как солнце, которое не заходит. О Ты, места не имеющий, где бы Ты мог укрыться, ибо Ты никогда не избегаешь нас, не презираешь ни единого; это мы, напротив, прячемся, не желая выходить к Тебе" (26).
Осознанный и личный опыт Святого Духа есть согласно жизни христианина в византийской традиции высшая цель как опыт, который подразумевает непрерывное возрастание и восхождение. Этот опыт не противостоит существенно христоцентрическому пониманию Евангелия, ибо он сам возможен лишь "во Христе", то есть через участие в обоженной человечности Иисуса. Нет тут противоречия и с практическими этическими требованиями, ибо он невозможен, если человек не выполняет этих требований. Но, очевидно, что такой опыт отражает персоналистское, в основаниях своих, понимание христианства. Таким образом, Византийская Церковь в большей степени, чем это было на Западе, видит в святом или в мистике стража веры и доверяет ему больше, чем какой-либо постоянной институции. Более того, эта Церковь не станет развивать какие-то правовые или канонические гарантии для независимого христианского действия в мире, уповая скорее на то, что если будет нужда, то пророки явятся, чтобы уберечь тождественность Евангелия; и надежду эту подтвердил существовавший на протяжении всей истории Византии неуступчивый нонконформизм отдельных монахов и многих обителей.
Несомненно, однако, что и Византийская Церковь столкнулась с искушениями, внутренне присущими ее персоналистскому взгляду. Спиритуалистские и дуалистские секты часто процветали в византийском и послевизантийском мире бок о бок с православной духовностью. В период между IV и XIV вв. разного рода мессалиане — эти "пелагиане Востока" (27) — будут проповедовать антисоциальные, несакраментальные и дуалистические интерпретации монашеского идеала. Их примеру последуют русские "стригольники" и другие секты. Их влияние, в форме преувеличенного антиинституционализма, всегда будет чувствоваться и в канонических границах самой Православной Церкви.
Церковь, разумеется, никогда не соглашалась на то, чтобы спиритуалистский индивидуализм и "энтузиазм" превратился в экклезиологическую систему, предпочитая хранить свою сакраментальную структуру и каноническую дисциплину. Осознавая ту истину, что в Царстве Бога нет законов, кроме закона Духа, Церковь помнила и о том, что Царство, уже достижимое в правдивом и непосредственном опыте, еще не вошло в силу и остается пока сокрытым под покровом церковных таинств. В нынешнем aion структуры, законы, каноны и учреждения неизбежны как средства более полного осуществления Царства. На деле византийский мир признавал за христианской империей законное право кодифицировать практическую христианскую этику и надзирать за применением последней. Стандартным кодексом христианского поведения считался "Номоканон", свод церковных правил и государственных законов, касающихся религии. Но даже там сохранился основополагающий для византийского христианства персонализм, выразившийся в том, что именно личность, а не учреждение, наделялась прямой ответственностью за происходящее в христианском мире: христианский император — "избранник Бога". История сложилась так, что продолжившееся на Востоке существование империи уберегло Византийскую Церковь от необходимости взятия на себя правящей роли в обществе и политического руководства его делами. Поэтому Восточная Церковь более строго держалась своей функции сторожевого поста на пути к грядущему Царствию — Царства, которое в основе своей не похоже на все политические системы века сего.
Несмотря на явную двусмысленность и лицемерие, которые, временами становились очевидными в Византийском государстве, все же это обстоятельство послужило историческим обрамлением Предания, удержавшего эсхатологический характер христианства. В общем, будь то в странах ислама или же в современных светских обществах Восточной Европы, православные привыкают жить в своего рода гетто: замкнутая литургическая община с ее опытом небесного служит и убежищем, и школой. Такие православные общины демонстрируют замечательную способность к выживанию, а также, как, например, в XIX и XX вв. в России, к серьезному влиянию на интеллектуальное развитие. Упор православной общины на свободный опыт Духа как освобождающую цель жизни человека, быть может, даже более приемлем для тех, кто сегодня ищет альтернативы сверхинституциональному учению о Церкви западного христианства.
Примечания
1. Послание 38, 4; PG 32:332c; trans. R. J. Deferrari (London: Heinemann. 1961), p. 211.
2.Cat. 16, 11; PG 33:932C.
3. De Spir. S., 16, 38; PG 32:136B.
4. In Joh. XI, 10; PG 74-541c.
5. CM. R.Leaney, «The Lucan text of the Lord's Prayer (in Gregory of Nyssa)*, Novum Testamentum 1 (1956), p. 103-111.
6. Apodeipnon, canon, ode 5.
7. Великое освящение воды.
8. Ad Strap. I, 31; PG 26:605A.
9. Там же, 1, 28; PG 26:590А.
10. See for example Basil, De Spirit, S., 9, 23; PG 32:109в.
11. On the Incarnation and Against the Arians, 8; PG 26:99?A.
12. A Commentary on the. Divine Liturgy, 37, 3, SC 4 bis, p. 229; trans. J. M. Hussey and P. A. McNulty (London: SPCK, I960), p. 90.
13. Кафизма 1.
14. Канон 2, песнь 8.
15. Канон 1, песнь 1.
16. Кафизма 1.
17. De fide orth. l, 8; PG 94:821ЯC.
18. Lossky, Mystical Theology, p. 166-167.
19. Cp. J. Meyendorff, Gregory Palamas, p. 14-15, 231.
20. Boris Bobrinskoy, «Liturgie et eccle'siologie trinitaire de St. Basile», Etudes patriotiques; le traite sur le Saint-Esprit de Saint Basile, Foi et Constitution, 1969, p. 89-90; also in Verbum Caro, 23, No. 88.
21. Кондак Пятидесятницы.
22. Послание 159, 2; PG 32:62lAB; ed. Deferrari, p. 396.
23.Воскресная утреня, антифон, глас 4.
24. On the Life in Christ. IV; PG 150:617Я.
25. Тропарь96.
96 Славянский текст: "...иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную".
26. PG 120:509вс.
27. I. Hausherr, «L'erreur fondamentale et la logique du messalianisme», OCP il (1955), p. 328-360.